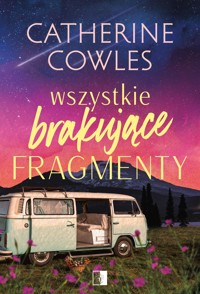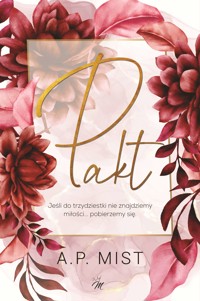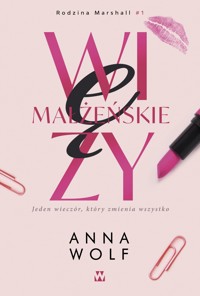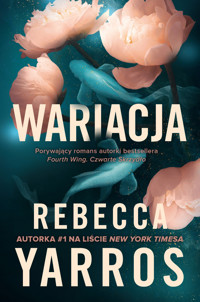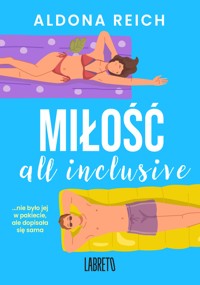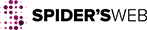Oferta wyłącznie dla osób z aktywnym abonamentem Legimi. Uzyskujesz dostęp do książki na czas opłacania subskrypcji.
14,99 zł
DO 50% TANIEJ: JUŻ OD 7,59 ZŁ!
Aktywuj abonament i zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego, aby zamówić dowolny tytuł z Katalogu Klubowego nawet za pół ceny.
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: КСД
- Kategoria: Romanse i erotyka•Romanse
- Język: rosyjski
Мэгги многим была обязана своему брату Тому. Он спас семью от разорения, когда их отец обанкротился и погряз в долгах. После этого Том решил, что вправе указывать Мэгги во всем — даже в том, кого любить, а кого нет. Узнав о связи Мэгги с Филипом, он хотел заставить сестру забыть об этом жалком человеке. К тому же в девушку влюблен богатый красавец Стивен. Но он — жених ее кузины Люси. Мэгги понимает, что, ответив взаимностью Стивену, она разобьет кузине сердце и ранит душу Филипа. В борьбе с собой и жестокой волей брата Мэгги предстоит сделать выбор. Позволить себе любить и жить, не оглядываясь на других? Или смириться, так и не позволив себе стать счастливой?..
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 996
Podobne
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2021
ISBN 978-617-12-8729-7 (epub)
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства
Электронная версия создана по изданию:
Перевод с английскогоАнатолия Михайлова
Дизайнер обложкиАнастасия Попова
Элиот Д.
Э46 Мельница на Флоссе : роман / Джордж Элиот ; пер. с англ. А. Михайлова. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2021. — 864 с.
ISBN 978-617-12-8638-2
УДК 821.111
©DepositPhotos.com / IuliiaVerstaBO, serawood, облож-ка, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2021
Книга первая. Сын и дочь
Глава первая. Окрестности Дорлкотт-Милл
По широкой равнине, меж привольно раскинувшимися зелеными берегами, спешит к морю Флосс, а навстречу реке, подобно нетерпеливому возлюбленному, жаждущему заключить ее в жаркие объятия и остановить ее стремительный бег, торопится прилив. Насвоеймогучей груди он несет черные силуэты торговыхсудов, груженных свежеструганными сосновыми досками, туго набитыми мешками с льняным семенем или черным блестящим углем, — несет к городку Сент-Оггз, чьи старинные рифленые крыши из красной черепицы и широкие фронтоны верфей и складов виднеются между невысоким, поросшим лесом холмом и берегом реки, окрашивая ее воды в мягкий багрянец под лучами неяркого февральского солнышка. По обе стороны от нее вдаль убегают богатые пастбища, перемежающиеся клочками вспаханной земли, готовой принять семена будущего урожая, или уже зазеленевшими первыми побегами озимых. Кое-где за зелеными изгородями и многочисленными деревьями еще виднеются золотистые россыпи прошлогодних стогов, так что со стороны кажется, будто далекие корабли поднимают свои мачты и вздувают красно-коричневые паруса прямо посреди ветвей раскидистых ясеней. На самой окраине городка с красными черепичными крышами в реку впадает ее бурный приток Риппл. Поверхность его рябит мелкими темными барашками, придающими ему на редкость живописный вид. Когда я брожу по его берегам и вслушиваюсь в его негромкий умиротворенный шепот, так похожий на голос друга, пусть и неспособного услышать меня, он представляется мне живым и словоохотливым спутником. Я до сих пор помню большие ивы, окунавшие ветви в его воды, и этот каменный мост тоже сохранился в моей памяти.
А вот и Дорлкотт-Милл, здешняя мельница. Я просто не могу пройти мимо, чтобы не остановиться на минуту-другую на мосту и не полюбоваться на нее, хотя небо уже затянуто тучами, а день давно клонится к вечеру. Даже сейчас, на исходе февраля, когда деревья стоят голые и неприветливые, на нее приятно смотреть — пожалуй, сырость и прохлада лишь добавляют очарования аккуратному и ухоженному домику, столь же древнему, как и те вязы и каштаны, что укрывают его от ураганных ветров, налетающих с севера. Приток грозит вот-вот выйти из берегов, затопив заросли лозы и чуть ли не весь участок перед домом. Глядя на полноводный ручей, сочную траву и нежную зелень мха, которая сглаживает суровость огромных стволов и ветвей, просвечивая сквозь их переплетение, я понимаю, что всей душой люблю этот влажный климат, и завидую уткам-вдовушкам, что погружают головы глубоко в воду среди прутьев лозняка, не обращая внимания на то, сколь нелепо они выглядят для тех, кто взирает на них сверху, из благополучной сухости.
Шум воды и рокот мельничного колеса создают некую волшебную завесу, гасящую прочие звуки, отчего сценка перед глазами лишь обретает еще большую умиротворенность. Она словно бы отрезает вас от внешнего мира. Но вот раздается грохот огромного крытого фургона, везущего домой мешки с зерном. Его честный возница думает о своем ужине, который наверняка подгорает в печи, ведь час уже поздний, но он не притронется к нему, пока не накормит своих лошадок — крепких смирных животин с добрыми глазами, глядящих на него, как мне отчего-то представляется, с мягким упреком из-под своих шор, стоит ему взяться за хлыст, которым он так безжалостно погоняет их, будто они нуждаются в столь жестоком обращении! Достаточно лишь взглянуть на то, как они напрягают все жилы, втаскивая повозку вверх по склону на мост, и чем ближе дом, тем усерднее они тянут ее. Вы только посмотрите на их мощные мохнатые ноги, которыми они попирают земную твердь, на терпеливое напряжение вытянутых шей, на игру сильных мускулов на крупе! Я уже представляю, как они тихонько ржут над заслуженной тяжким трудом порцией овса, и буквально вижу, как они склоняют потные шеи, освобожденные от сбруи, окуная ноздри в грязный пруд. Но вот они уже вскарабкались на мост, куда быстрее спускаясь с другой его стороны, и задок фургона исчезает за поворотом, скрываясь из виду за деревьями.
Теперь ничто не мешает мне вновь устремить свой взор на мельницу, на то, как ее колесо безостановочно разбрасывает изумрудные струи. Оказывается, за ним наблюдает и какая-то маленькая девочка; она стоит не шелохнувшись на одном и том же месте у края воды с тех самых пор, как я задержался на мосту. А рядом с ней прыгает и лает смешная собачонка с коричневым ухом, выказывая свое недовольство неутомимому механизму; пожалуй, она приревновала к нему свою подружку в касторовой шляпке, которая, кажется, совсем забыла о ней. На мой взгляд, ей давно пора домой, к теплу очага, алые отблески которого хорошо видны в сгущающихся сумерках. Наверное, самое время и мне двинуться дальше — уж слишком долго я стою, облокотившись о холодный камень моста…
В самом деле, что-то руки у меня совсем занемели. Пожалуй, я слишком сильно опирался ими на подлокотники своего кресла, вспоминая тот давний февральский вечер, когда я стоял на мосту перед мельницей Дорлкотт-Милл. Перед тем как задремать, я собирался поведать вам, о чем разговаривали мистер и миссис Талливер, сидя слева от жарко пылающего в гостиной камина в тот самый день, который мне приснился.
Глава вторая. Мистер Талливер из Дорлкотт-Милл оглашает свое решение насчет Тома
— Я скажу тебе, чего бы я хотел, — проговорил мистер Талливер, — я хотел бы дать Тому хорошее образование: такое, которое позволит ему самому зарабатывать себе на хлеб. Именно об этом я думал, когда велел ему покинуть академию на Благовещение. Потому как уже на Иванов день я намерен отдать его в по-настоящему хорошую школу. Если бы я хотел сделать из него мельника или фермера, то двух лет в академии ему было бы довольно; он и так проучился гораздо дольше меня. Моя же собственная учеба обошлась моему папаше недорого: азбука да розги, и все дела. И потому я хочу, чтобы Том стал грамотеем и ничем не уступал тем щеголям, что гладко болтают да красиво пишут. Тогда он бы здорово помог мне в судебных тяжбах, разбирательствах и прочем. Нет, стряпчего из него я делать не намерен — не хватало еще, чтобы он превратился в жулика и негодяя; я бы предпочел, чтобы он выучился на механика, или землемера, или аукциониста и оценщика, вроде Райли, или еще какого ловкача, который знай гребет себе денежки лопатой и у которого забот — только купить цепочку для часов потолще да табуретку повыше. Все ониодним миром мазаны, и, сдается мне, законы писаны не для них, потому как тот же Райли ничем не уступит стряпчему Уэйкему. Уж он-то нисколечко его не боится.
Мистер Талливер обращался к своей супруге, светловолосой особе приятной наружности в чепце с оборками в виде веера (мне даже страшно подумать, сколько времени минуло с той поры, как женщины носили подобные головные уборы, так что скоро они вновь должны войти в моду. В то время миссис Талливер было что-то около сорока, такие чепчики только-только появились в Сент-Оггзе и считались премиленькими.).
— Что ж, мистер Талливер, вам виднее: лично у меня нет никаких возражений. Но быть может, лучше я зарежу пару кур или индеек да приглашу наших тетушек с дядюшками на будущей неделе на ужин, чтобы вы выслушали, что имеют сказать по этому поводу сестрица Глегг и сестрица Пуллет? У меня есть парочка куриц, которые буквальноумоляют, чтобы их прирезали!
— Бесси, перережь хоть всех своих кур до единой, но я не желаю выслушивать ничьи советы о том, как мне поступить с собственным сыном, — с вызовом заявил в ответ мистер Талливер.
— Боже милосердный! — воскликнула миссис Талливер, до глубины души пораженная этой кровожаднойриторикой. — Как вы можете так говорить, мистер Талливер? Впрочем, у вас в обычае неуважительно отзываться о моей семье, а сестрица Глегг винит во всем меня, хотя я невинна, как новорожденное дитя. Никтои никогда не посмеет упрекнуть меня в том, будто я не твержу всем и каждому, как я рада тому, что у моих детей есть обеспеченные собственным доходом тетки и дядья. Однако же, если Том пойдет в новую школу, я бы хотела, чтобы она располагалась неподалеку, дабы я могла обстирывать и обшивать его. В противном случае ему хоть коленкор дай вместо полотняного белья — все едино пожелтеет после дюжины стирок. Да и потом, я могла бы с оказией передать ему кекс, или пирог со свининой, или яблоко. Господь свидетель, лишний кусок ему не повредит, как бы хорошо его там ни потчевали. Уж что-что, а голодать моим детям не приходится, слава богу!
— Ладно-ладно, ежели все устроится, как надо, мы не станем отправлять его туда, куда не доедешь на фургоне, — заявил мистер Талливер. — Вот только не поднимай шума насчет стирки, если нам не удастся устроить его в школу поблизости. Есть у тебя такая блажь, Бесси: завидев на дороге прутик, ты вечно думаешь, что несумеешьперешагнуть через него. Ты не позволила бы мне нанять хорошего возницу только потому, что у него на лице выросла бородавка.
— Господь милосердный! — с некоторым удивлением отозвалась миссис Талливер. — Когда это я возражала против кого-либо только потому, что у него на лице бородавка? Они мне даже нравятся. Если хотите знать, и у моего брата, упокой Господь его душу, тоже была бородавка на лбу. Но я что-то не припоминаю, чтобы вы когда-либо предлагали нанять возницу с бородавкой, мистер Талливер. К примеру, у Джона Гиббса было не больше бородавок, чем у вас, то есть вообще ни одной, и я ничуть не возражала против того, чтобы вы наняли его, и вы непременно так и сделали бы, если б он не умерот горячки, — а ведь мы еще платили доктору Тернбуллу за то, что он пользовал его, — так что Джон и посейчас правил бы нашим фургоном. Да, у него запросто могла быть бородавка где-нибудь в другом месте, но, скажите на милость, откуда мне знать об этом, мистер Талливер?
— Нет-нет, Бесс, дело тут не в бородавке. Так, просто к слову пришлось. Но ты не обижайся — чего не скажешь ради красного словца. А сейчас я ломаю голову над тем,как найти правильную школу и отправить в нее Тома, потому как можно запросто промахнуться снова, как с этой академией. Я на пушечный выстрел больше не подойду ни к одной академии: какую бы школу для Тома я ни выбрал, академией она не будет. Это будет заведение, где ребят учат чему-нибудь еще, помимо того, как чистить башмаки или копать картошку. Чертовски нелегко, знаешь ли, выбрать подходящую школу.
Мистер Талливер умолк ненадолго и сунул руки в карманы штанов, словно надеясь отыскать там ответ. Очевидно, он не остался разочарован, потому что вскоре воскликнул:
— Я знаю, что делать: надо поговорить с Райли! Он приезжает завтра, чтобы решить спор насчет плотины.
— Что ж, мистер Талливер, я выделила простыни для гостевой кровати, и Кассия развесила их у огня. Правда, они не самого лучшего качества, но спать на них сможет кто угодно, кем бы он ни был. Что же до простыней из лучшего голландского полотна, мне вроде и жаль, что мы на них потратились, но с другой стороны, надо же и нас будет во что-нибудь обрядить. Случись вам преставиться прямо завтра, мистер Талливер, то они разглажены без единой складочки и благоухают лавандой, так что развернуть их — одно удовольствие. Я храню их в левом углу большого дубового комода в задней комнате и никому не разрешаю прикасаться к ним.
С этими словами миссис Талливер извлекла из кармана блестящую связку ключей и, выбрав один из них, принялась поглаживать его пальцами, безмятежно глядя на огонь. Будь мистер Талливер впечатлительным человеком, он мог бы заподозрить, что она достала ключ, дабы дать волю своему воображению в предвкушении того момента, когда сам он окажется именно в том состоянии, чтобы оправдать хлопоты и расходы на простыни из лучшего голландского полотна. К счастью, он не являлся таковым; он готов был ревностно оборонять лишь свое право на мельницу, кроме того, он обладал полезной привычкой не слишком внимательно прислушиваться к болтовне супруги и, помянув мистера Райли, занимался тем, что ощупывал собственные шерстяные чулки.
— Кажется, я придумал, Бесси, — заявил он после недолгого молчания. — Сдается мне, что Райли — именно тот, кто подскажет нам нужную школу: он и сам где-то учился, да и бывать ему приходится повсюду, учитывая разрешение всяких там споров, оценку и прочее. Словом, завтра вечером мы с ним все обсудим после того, как он освободится. Знаешь, я бы хотел, чтобы Том был похож на него — умел складно изъясняться, как по писаному, и знал множество таких слов, которые ничего не значат, а повернуть их можно и так и этак, да и в делах знал бы толк.
— Что ж, — сказала миссис Талливер, — если он будетуметь складно говорить, знать все на свете, ходить, согнувшись в три погибели, и зачесывать волосы надолбом, то я ничуть не возражаю, чтобы мальчик обучился всему этому. Но эти записные болтуны из больших городов имеют обыкновение носить фальшивые манишки, они не расстаются со своими жабо до тех пор, пока те непревращаются в лохмотья, а потом прикрывают их детскими нагрудничками. Во всяком случае, Райли точно так делает. Да и потом, если Том, как и Райли, будетжить в Мадпорте, то в доме у него на кухне не развернешься, и о свежих яйцах на завтрак останется только мечтать, и спать ему придется на третьем или даже четвертом этаже, а случись пожар, оттуда и вовсе не выбраться.
— Вздор, — заявил в ответ мистер Талливер. — У меня и в мыслях не было отправлять его в Мадпорт: я рассчитываю, что он откроет контору в Сент-Оггзе, где-нибудьнеподалеку от нас, а жить будет дома. Впрочем, — продолжил мистер Талливер после некоторой паузы, — боюсь, что Том не обладает нужным складом ума, чтобы стать ловким дельцом. Сдается мне, он несколько туповат. В этом он пошел в твоих родственников, Бесси.
— Совершенно с вами согласна, — заявила миссис Талливер, приняв последнее предположение супруга за несомненную похвалу. — Он предпочитает бульон посолонее, так же, как мой брат и отец.
— Какая жалость, — заметил мистер Талливер, — что в мать уродился мальчик, а не девочка. В этом вся беда скрещивания: никогда не знаешь, что у тебя получится. А вот малышка пошла вся в меня, никаких сомнений: она куда умнее Тома. Боюсь, даже слишком умна для женщины, — продолжал мистер Талливер, с сомнением поворачивая голову сначала в одну сторону, а потом в другую. — Пока она маленькая, я не вижу в том большого вреда, а вот слишком умная женщина ничем не лучше длиннохвостой овцы — за нее не дадут настоящей цены.
— Нет, как раз в этом-то и беда, что она еще маленькая, мистер Талливер, потому что это ведет к непослушанию. Ума не приложу, как заставить ее не пачкать платье хотя бы на протяжении двух часов. Вот, кстати, раз уж вы сами заговорили об этом, — продолжала миссис Талливер, встав с места и подойдя к окну, — я ее не вижу, а ведь уже пора пить чай. Ах, так я и думала: бродит где-нибудь по берегу ручья, как неприкаянная. Помяните мое слово, когда-нибудь она непременно свалится в воду.
Миссис Талливер резко постучала в окно, поманила кого-то пальцем, после чего осуждающе покачала головой; она повторила свои действия несколько раз, прежде чем вернуться к своему креслу.
— Вот вы ведете речь об остром уме, мистер Талливер, — заметила она, усаживаясь, — но на мой взгляд, иногда девчонка выглядит просто чокнутой. Когда я посылаю ее наверх принести что-либо, она забывает,зачемпошла туда, и, усевшись на пол на солнце, принимается заплетать косу и напевать себе под нос, как ненормальная, а я все это время жду ее внизу. В моей семье такого не случалось никогда, слава богу! И загара такого, отчего она похожа на мулатку, у нас тоже в роду нет ни у кого. Не хотелось бы мне дурно отзываться о провидении, но она — сущее наказание, вот что я вам скажу.
— Какой вздор! — повторил мистер Талливер. — Всякий, у кого есть глаза, скажет, что она славная черноглазая девчушка, ничуть не хуже всех прочих детей, а уж читает она едва ли не лучше самого пастора.
— Но волосы у нее не хотят виться, как я с ними ни бьюсь, а она терпеть не может папильотки и не желает стоять смирно, чтобы завить их щипцами.
— Ну, так обрежь их — остриги коротко, — резко бросил отец.
— Как вы можете говорить такое, мистер Талливер? Она уже большая девочка, ей сравнялось девять, да и росту она немаленького, чтобы коротко остричь ей волосы. А вот у ее кузины Люси настоящая копна кудряшек на голове, ни волосинки не выбивается из прически. Какая досада, что такой ангелочек родился у моей сестрицы Дин. Люси и впрямь больше похожа на меня, чем мое собственное дитя. Мэгги, Мэгги! — с усталым отчаянием воскликнула мать, когда эта ошибка природывошлав комнату. — Разве не говорила я тебе, чтобы ты и близко не подходила к воде? Когда-нибудь ты непременно свалишься в реку и утонешь. И вот тогда пожалеешь, что не послушалась свою мамочку, да поздно будет.
Волосы Мэгги, когда девочка сняла капор, со всей очевидностью подтвердили обвинения матери. Миссис Талливер, желая, чтобы у дочери на голове были завитушки, «как у всех нормальных детей», подстригла их спереди слишком коротко, чтобы их можно было заложить за уши; кроме того, не прошло и часа после того, как из них вынули папильотки, и они вновь стали прямыми, и Мэгги приходилось то и дело встряхивать головой, чтобы черные блестящие локоны не лезли ей в глаза, отчего она изрядно походила на маленького шетландского пони.
— Ох, дорогая моя Мэгги, ну разве можно так гадко обращаться со своей шляпкой? Будь умницей, отнеси ее наверх, причешись, переоденься и переобуй башмачки — боже, какой стыд и позор! — а потом прихвати свое лоскутное шитье и спускайся вниз, как подобает маленькой леди.
— Ах, мама, — с негодованием ответствовала Мэгги, — я не хочусшивать лоскутки.
— Как! У тебя так красиво получается, а ты отказываешься сделать покрывало для своей тети Глегг?
— Это глупо, — заявила Мэгги, тряхнув непокорной гривой, — сначала рвать вещи на кусочки, а потом сшивать их вновь. А для тетки Глегг я вообще не желаю ничего делать. Она мне не нравится.
С этими словами Мэгги вышла вон, волоча за собой капор за завязки, а мистер Талливер разразился оглушительным хохотом.
— Хотелось бы мне знать, что вы увидели тут смешного, мистер Талливер, — с обидой заявила мать. — Вы потворствуете ее капризам. А ее тетки подумают, будто это я ее избаловала.
Миссис Талливер была, как говорится, особой весьма уравновешенной — даже будучи маленькой, онаникогдане плакала, разве что от голода или от уколов булавками; с самой колыбели отличалась крепким здоровьем, розовощекостью, пухлостью и недалеким складомума — короче говоря, была красой и гордостью своего семейства. Но молоко и кротость — такие вещи, которые трудно сохранить в неприкосновенности, и, стоит им прокиснуть, как они способны вызвать серьезное расстройство молодого желудка. И я часто спрашиваю себя, а удавалось ли этим ранним Мадоннам Рафаэля, с их светлыми ликами и откровенно глуповатым выражением лица, сохранять свою безмятежность, когда их крепкие и упрямые отпрыски становились слишком большими для того, чтобы обходиться без одежды? Полагаю, им тоже приходилось прибегать к бесплодным увещеваниям и все чаще испытывать нешуточное раздражение при виде того, что все усилия пропадают вотще и втуне.
Глава третья. Мистер Райли дает совет по поводу школы для Тома
Господин в просторном шейном платке и манишке, попивающий разбавленный бренди со своим добрым другом мистером Талливером, — не кто иной, как мистер Райли, джентльмен с восковым цветом лица и пухлыми ручками, обладающий недюжинным и, пожалуй, даже избыточным образованием для аукциониста и оценщика, но достаточно великодушный, чтобы выказывать расположение простым деревенским знакомцам с претензией на гостеприимство. О таких знакомых мистер Райли отзывался как о «людях старой школы».
В их неспешном разговоре наметилась небольшая пауза. Мистер Талливер не без причины воздержался от того, чтобы в седьмой раз пересказать ту ледяную отповедь, которую Райли дал Диксу, и то, как Уэйкем в кои-то веки получил по заслугам, когда вопрос с запрудой разрешился по справедливости, — вопрос, который, по чести говоря, и не образовался бы никогда, если бы все заинтересованные стороны вели себя, как подобает, а дьявол не придумал бы стряпчих.
В целом мистера Талливера можно было с полным на то основанием назвать человеком, придерживающимся благоразумных традиционных ценностей, но раз или два он чересчур доверился исключительно своему интеллекту, придя к нескольким сомнительным выводам, среди которых был и тот, что крысы, долгоносики и стряпчие — суть порождения злейшего врага рода человеческого. К несчастью, в его окружении некому было указать ему на то, что подобные убеждения свойственны воинствующему манихейству, иначе он наверняка признал бы свою ошибку. Но сегодня стало очевидно, что добро восторжествовало: дело с запрудой оказалось довольно-таки запутанным. С одной стороны, оно выглядело ясным как божий день, а с другой, пусть и запутанное, оно вовсе не сталонеразрешимым для Райли. Мистер Талливер, пожалуй, чуточку переборщил с бренди, плеснув его более обыкновенного, чем, пожалуй, и объяснялась та высокая оценка, которую он дал деловым талантам своего друга и которую он выразил крайне неосмотрительно для человека, у которого, по слухам, на счету в банке лежали несколько сотен фунтов.
Но с обсуждением запруды можно было и повременить; при желании разговор нетрудно было бы возобновить с того места, на котором они остановились: читатель помнит, что мистеру Талливеру настоятельно требовался совет друга по совсем иному поводу. Именно по этой причине он и умолк ненадолго, сделав последний глоток и задумчиво потирая колени. Он был не из тех, кто склонен неожиданно перескакивать с одной темы на другую, и частенько говаривал, что жизнь полна неожиданностей — погонишь фургон слишком быстро, да и зацепишь угол на повороте. А вот мистеру Райли, в отличие от него, спешить было некуда. С какой, собственно, стати? Любой торопыга на его месте проявил бы завидную безмятежность, сидя в домашних тапочках у теплого очага, угощаясь внушительными понюшками табаку и потягивая дармовой бренди с водой.
— Меня тут беспокоит кое-что, — наконец заговорил мистер Талливер, понизив голос, что было у него не в обычае, а также повернув голову и пристально глядя на своего собеседника.
— Вот как! — с легким интересом отозвался мистер Райли. Обладатель тяжелых восковых век и высоких бровей, он сохранял невозмутимость при любых обстоятельствах, что, в совокупности с привычкойотправлять в ноздрю очередную понюшку табаку, прежде чем ответить, придавало ему пророческий вид в глазах мистера Талливера.
— Дело важное, — продолжал он. — Речь идет о моем мальчике Томе.
При первых же звуках этого имени Мэгги, которая сидела на низенькой скамеечке у огня, держа на коленях раскрытую толстенную книгу, тряхнула своей тяжелой гривой и нетерпеливо вскинула голову. Немногие вещи способны были вывести Мэгги из мечтательного состояния, когда она забывалась над очередной книгой, но имя Тома прозвучало для нее, словно пронзительный паровозный свисток; в мгновение ока она насторожилась, а глаза ее засверкали, как у скайтерьера, заподозрившего неладное и готового кинуться на любого, кто вздумал бы угрожать ее любимому Тому.
— Видите ли, на Иванов день я хочу отдать его в новую школу, — сказал мистер Талливер. — На Благовещение он возвращается из академии, и пару месяцев я дам ему побездельничать. Зато потом я намерен отправить его в по-настоящему хорошую школу, где его обучат грамоте и сделают из него человека.
— Что ж, — согласился мистер Райли, — нет ничего лучше достойного образования. Хотя, — с нажимом продолжил он, — я не возьмусь утверждать, будто нельзя стать хорошим мельником и фермером, равно как и удачливым торговцем, без особой помощи школьного учителя.
— Я вам верю, — ответствовал мистер Талливер, подмигнув и склонив голову к плечу, — но вот в чемзагвоздка. Я вовсене желаю, чтобы Том становился мельником и фермером. Пустая трата времени. Посудите сами,еслия сделаю из него мельника и фермера, он непременно решит, что мельница и земля достанутся ему в наследство, а потом и примется намекать, что мне, дескать, давно пора на покой. Нет уж, слишком часто я видел, как подобное происходит с другими сыновьями. Я не собираюсь снимать одежду прежде, чем лечь в постель. Я дам Тому образование и пристрою его к делу, а уж он пусть потом вьет собственное гнездышко, а не выгоняет меня из моего. А вот когда меня не станет, тогда ему и карты в руки. Я не желаю кормиться жидкой кашицей до того, как потеряю последние зубы.
Очевидно, это и была пресловутая больная мозоль мистера Талливера; тот самый побудительный мотив, придавший неожиданную выразительность его пылкой речи и не исчерпавший себя до конца, потому что еще несколько минут спустя он с вызовом качал головой и ворчал себе под нос: «Нет-нет», — впрочем, постепенно успокаиваясь.
Признаки отцовского недовольства не ускользнули от внимания Мэгги и поразили ее в самое сердце. Как выяснилось, Том запросто мог вышвырнуть отца за порог, отчего их ожидало бы не самое приятное будущее. Стерпеть такое не было никакой возможности, и Мэгги вскочила со своей скамеечки, позабыв о тяжелой книге, которая со стуком упала за каминную решетку. Бросившись к отцу, она прижалась к нему всем телом и выкрикнула, плача и негодуя:
— Папа, Том никогда не сделает ничего подобного! Я знаю, я уверена в этом!
К счастью, миссис Талливер вышла из комнаты, дабы проследить за приготовлением ужина, и мистер Талливер оказался тронут до глубины души, посему Мэгги не услышала ни слова упрека из-за книги. Мистер Райли тихонько поднял ее и окинул взглядом обложку, пока отец посмеивался. Его суровое морщинистое лицо разгладилось, в чертах его проглянула нежность, и он погладил дочь по спине, а потом взял за руки и привлек к себе между коленями.
— Вот, значит, как! О Томе и слова худого нельзя сказать, а? — осведомился мистер Талливер, с ласковойусмешкойглядя на Мэгги. После чего, понизив голос, он обратился к мистеру Райли таким тоном, словно дочь не могла его слышать: — Она уже все понимает, как взрослая. А слышали бы вы, как она читает! Словно заранее знает, что там написано. И не расстается с книгами! Но это плохо, точно вам говорю, — печально добавил мистер Талливер, стремясь унять свой достойный порицания восторг. — Женщина не должна быть настолькоумной, ничего хорошего из этого не выйдет. Но какая все-таки молодчина! — Очевидно, восхищение собственной дочерью вновь взяло над ним верх. — Она читает книги и понимает их лучше, чем половина взрослых в округе.
На щеках Мэгги расцвел румянец триумфа. Она решила, что уж теперь-то мистер Райли станет относиться к ней со всем уважением; очевидно, раньше он попросту не замечал ее.
Мистер Райли тем временем неспешно перелистывал страницы, и по выражению его лица с высокими дугами бровей она ничего не могла прочесть. Но вот наконец он перевел взгляд на нее и сказал:
— А ну-ка, иди ко мне и расскажи, что ты прочла в этой книге. Здесь есть картинки, и я хочу знать, что они означают.
Мэгги, покраснев еще пуще, без колебаний подошла к мистеру Райли и уставилась на книгу, в нетерпении схватившись за один ее уголок, после чего, тряхнув своей роскошной гривой, заговорила:
— А вот и расскажу! Эта картинка — очень страшная, верно? Но я почему-то не могу от нее глаз оторвать. Старуха в воде — наверняка ведьма. Ее скинули туда, чтобы узнать, колдунья она или нет. Если она выплывет, значит, ведьма, а если утонет — ну, и умрет, сами понимаете, — то она невиновна, и никакая она не ведьма, а просто глупая старая женщина. Но какой ей с этого прок, если она к тому моменту уже утонет, а? Разве что, как мне представляется, она попадет в рай, и Господь позаботится о ней. А этот жестокий кузнец, что стоит, смеясь и уперев руки в бока, — разве он не безобразен? А я скажу вам, кто он такой на самом деле. Он —самдьявол, — при этих словах голос Мэгги зазвучал громче и торжественнее, — а вовсе не настоящий кузнец, потому что дьявол умеетвоплощаться во всяких злых людей, а потом ходит по земле и заставляет окружающих совершать гадкие поступки, и чаще всего он принимает облик разных негодяев, а не добрых людей, потому что, в общем, если люди поймут, что он дьявол и он зарычит на них, то они убегут от него, и он не сможет заставить их сделать то, что хочет.
Откровения Мэгги ошеломили мистера Талливера, и он слушал ее с открытым ртом.
— Что это за книга попала девчонке в руки? — не выдержал он наконец.
— «История дьявола» Даниэля Дефо — не слишком подходящая книжица для маленькой девочки, — отозвался мистер Райли. — Как она вообще оказалась в вашей библиотеке, мистер Талливер?
Мэгги понурилась и явно обиделась, а ее отец ответил:
— Это одна из книг, которые я купил на распродаже у Партриджа. Они все были в одинаковых переплетах — очень красивых, сами видите, — и я решил, что все они мне пригодятся. Среди них оказалась и «Святая жизнь и смерть» Джереми Тейлора1. Я частенько почитываю ее по воскресеньям. — Мистер Талливер ощущал некоторое родство с великим писателем, поскольку его самого тоже звали Джереми. — Их там много — проповеди главным образом, — но у всех одинаковые обложки, ну, вот я и решил, что и содержание тоже не слишком отличается, так сказать. Но сдается мне, внешность бывает обманчива. Надо же, какая незадача.
— Что ж, — наставительно и покровительственно заговорил мистер Райли, потрепав Мэгги по голове, — советую тебе отложить в сторонку «Историю дьявола» и почитать что-нибудь поинтереснее. У тебя ведь найдется книжка получше?
— О да, — ответила Мэгги, чуточку воспрянув духом оттого, что ей представилась возможность оправдать свои вкусы. — Я и сама знаю, что это плохая книга, но картинки мне понравились, и я… ну, в общем, сама придумываю к ним разные истории. Но у меня еще есть «Басни Эзопа», книжка о кенгуру и других животных и «Путешествие пилигрима в небесную страну».
— Ага! Отличная книга, — заметил мистер Райли. — Лучше и не найти, пожалуй.
— Да, но в ней тоже много чего написано о дьяволе, — с торжеством заявила Мэгги, — и я покажу вам картинку, на которой он изображен в своем подлинном обличье, когда сражается с Христианином.
Мэгги метнулась в угол комнаты, вскочила на стули стащила с полки на небольшой этажерке потрепанный томик Баньяна2, который тут же раскрылся нанужной странице, так что ей даже не пришлось ничего искать.
— Вот он! — воскликнула она, подбегая обратно к мистеру Райли. — И Том раскрасил его для меня красками, когда приезжал домой на прошлые каникулы, — туловище черное, а глаза красные, как огонь, потому что он горит у него внутри и сверкает в очах.
— Ступай, ступай! — властно распорядился мистер Талливер, начавший испытывать некоторую неловкость при столь свободных комментариях относительно внешности существа, способного породить стряпчих. — Немедленно закрой книгу, и чтобы я больше не слышал подобных глупостей. Так я и думал: книги принесут девочке больше вреда, чем пользы. Ступай, дитя мое, и лучше помоги матери.
Мэгги тут же захлопнула книгу, уразумев, что совершила нечто непотребное, но, не испытывая ни малейшего желания помогать матери, нашла компромиссное решение и забилась в темный уголок позади отцовского кресла, где и принялась играть с куклой, к которой временами испытывала припадки привязанности в отсутствие Тома, совершенно пренебрегая ее туалетом, но осыпая ее столь жаркими поцелуями, что ее восковые щеки обрели блеклый и нездоровый оттенок.
— Ну что, доводилось ли вам слышать что-либо подобное? — полюбопытствовал мистер Талливер после ухода Мэгги. — Жаль, что она не родилась мальчишкой — вот уж тогда она задала бы жару всем стряпчим, помяните мое слово. Странное дело, — при этих словах он вновь заговорил едва ли не шепотом, — я ведь выбрал ее мать отнюдь не из-за ее ума; нет, она женщина приятная во всех отношениях, да и семья у нее порядочная. Но я выбрал ее среди сестер потому, что она показалась мне чуточку слабовольной, поскольку не желал, чтобы мне указывали, что и как делать в собственном доме. Но, как вы сами видите, даже если у мужчины есть мозги, никогда не угадаешь, к чему это приведет, и даже мягкая женщина способна произвести на свет туповатых парней и смышленых девиц, так что иногда мне кажется, будто мир вокруг встал с ног на голову. Чертовски неприятное чувство, доложу я вам.
Торжественная серьезность слетела с мистера Райли, и он содрогнулся всем телом под воздействием очередной щепотки табаку, прежде чем сказать:
— Но ведь ваш парнишка совсем не глуп, верно? В прошлый раз я видел его, когда он мастерил удочку, и мне показалось, он знал, что делает.
— Верно, его нельзя назвать тупицей — он понимает, что к чему, да и в здравом смысле ему не откажешь,и рукиу него растут, откуда положено. Вот только гладко изъясняться он совсем не мастак, да и читает плохо, книги терпеть не может, пишет с ошибками, как мне говорили, а с незнакомыми людьми так и вообще ведетсебятак, будто язык проглотил, и от него не услышишь и умного слова, как от моей дочурки. Вот я и хочу отправить его в такую школу, где его научат бойко владеть языком и пером, а заодно и сделают из него смышленого малого. Я хочу, чтобы мой сын ничем не уступал тем хитрованам, что обошли меня, получив хорошее образование. Оставайся мир таким, каким его задумал Господь, я бы тоже был малый не промах и добился бы своего, но все так запуталось, обернутое в красивую упаковку непонятных слов, что теперь я все чаще пребываю в растерянности, да еще и оказываюсь кругом виноватым. Мир сошел с ума — и честным людям в нем приходится несладко.
Мистер Талливер сделал долгий глоток и меланхолически покачал головой, сознавая, что высказал мысль, с которой рассудительному человеку трудно смириться в этом безумном мире.
— А ведь вы правы, Талливер, — заметил мистер Райли. — Куда лучше потратить сотню-другую на образование своего сына, чем оставить их ему по завещанию. Пожалуй, я бы и сам так поступил, будь у меня сын,хотя, Господь свидетель, у меня и в помине нет лишних денег, Талливер. Кроме того, мне надо думать, как пристроить своих дочерей.
— Смею надеяться, вы знаете, какая школа лучше всего подошла бы моему Тому, — заявил мистер Талливер, не позволяя сочувствию к отсутствию у мистера Райли свободных наличных денег сбить себя с пути истинного.
Мистер Райли неторопливо угостился еще одной щепоткой нюхательного табаку, держа мистера Талливера в напряженном ожидании, и, после долгого молчания, которое явно было нарочитым, сказал:
— Да, мне известна отличная возможность для любого, у кого есть необходимые средства, а ведь вы ими располагаете, Талливер. Говоря откровенно, никому из друзей я не рекомендовал бы отдавать своих детей в обычную школу, особенно если он может позволить себе лучший выбор. Но если он хочет, чтобы его сын получил блестящую подготовку и образование, став напарником своего учителя, причем учителя первоклассного, то я знаю такого человека. Я не стал бы рассказывать о такой возможности первому встречному, ибо не уверен, что любой может ею воспользоваться, даже если захочет, но вам, Талливер, я о ней расскажу, только пусть это останется между нами.
В пристальном вопрошающем взгляде, устремленном мистером Талливером на пророческое и загадочное лицо своего друга, явственно читалось нетерпение.
— Что ж, давайте послушаем, — изрек он, удобнее устраиваясь в кресле с самодовольством человека, которого сочли достойным некоей важной беседы.
— Он — выпускник Оксфорда, — напыщенно заявил мистер Райли и умолк, внимательно глядя на мистера Талливера, дабы оценить действие, которое произвели на того столь неоднозначные сведения.
— Как! Пастор? — с некоторым сомнением воскликнул мистер Талливер.
— Да, и магистр искусств вдобавок. К тому же, насколько я понимаю, епископ о нем очень высокого мнения: именно он пожаловал ему сан викария и нынешний приход.
— Вот как? — пробормотал мистер Талливер, совершенно не разбиравшийся в подобных вещах и потому относившийся к ним довольно-таки трепетно. — Но зачем же ему Том в таком случае?
— Видите ли, ему нравится преподавать, а еще он желал бы продолжить свои штудии, но пасторские обязанности почти лишили его такой возможности. И поэтому он желает взять в ученики одного или двух мальчишек, дабы с пользой проводить оставшееся время. Юноши практически станут членами его семьи — согласитесь, что может быть лучше для них? — и постоянно будут пребывать под надзором Стеллинга.
— А бедному мальчику дадут добавку пудинга, как вы полагаете? — осведомилась миссис Талливер, вернувшаяся к этому времени на свое законное место. — Он обожает пудинги, а ведь он еще растет, и мне больно думать, что его станут ограничивать в этом.
— И какую же плату он за это потребует? — поинтересовался мистер Талливер, которому чутье подсказывало, что услуги сего достойного магистра искусств обойдутся весьма недешево.
— Я знаю одного клирика, который берет полтораста фунтов, а ведь он и в подметки не годится Стеллингу — человеку, о котором я говорю. Из надежного источника мне известно, что одна из весьма уважаемых особ в Оксфорде заявила, что Стеллинг мог бы добиться самых больших высот, если бы только пожелал. Но университетские степени ему ни к чему, он скромный человек и не стремится к славе.
— Что ж, уже лучше, намного лучше, — пробормотал мистер Талливер, — однако полтораста фунтов — большие деньги. Я и подумать не мог, что придется выложить столько.
— Позвольте заметить вам, Талливер, что хорошее обучение стоит своих денег. Но Стеллинг еще очень скромен в своих запросах, человек он не жадный. Не сомневаюсь, он согласится взять вашего парнишку за сотню, чего вы никогда не добьетесь от других клириков. Если хотите, я могу написать ему о вашем деле.
Мистер Талливер потер колени и в задумчивости уставился на ковер.
— По-видимому, он холостяк, — воспользовавшись паузой, вставила миссис Талливер, — а экономкам я не доверяю. Вот у моего покойного брата была однажды экономка, так она украла половину перьев из его лучшей перины и отослала их к себе домой. А уж сколько белья пропало, про то вообще никому не ведомо, — кстати, ее звали Стотт. У меня сердце разорвется, если там, куда мы отправим Тома, окажется экономка, и, надеюсь, вы откажетесь от этой мысли, мистер Талливер.
— На этот счет можете быть покойны, миссис Талливер, — сказал мистер Райли, — поскольку Стеллинг женат на славной маленькой женщине. Любому мужчине требуется супруга. Другой такой добрейшей души не сыскать на всем белом свете. Я хорошо знаю ее семью. Она похожа на вас — у нее такой же цвет лица и светлые вьющиеся волосы. Родом она из приличной мадпортской семьи, так что ее не выдали бы за кого попало. Но и Стеллинг не первый встречный, он весьма разборчив в своих знакомствах. Впрочем, я думаю, что против вашего сына он возражать не станет, если я похлопочу за него, разумеется.
— Даже не представляю, что он может иметь против нашего мальчика, — сказала миссис Талливер, в которой вновь проснулись материнские чувства. — Славный здоровенький мальчуган, ничуть не хуже иных прочих.
— Вот о чем я подумал, — сообщил мистер Талливер, поворачивая голову и глядя на мистера Райли после долгого созерцания ковра под ногами. — А не окажется ли пастор чересчур высокомудрым, чтобы сделать из парнишки делового человека? Сдается мне, клирики получают образование, которое позволяет им витать в облаках. А я желаю для Тома совсем иного. Я хочу, чтобы он разбирался в цифрах, умел писать, как по печатному, быстро соображал, понимал, чего хотят люди, и умел обертывать намерения в слова, не требующие немедленных действий. Это ведь не так просто, — заключил мистер Талливер, качая головой, — дать человеку понять, что ты о нем думаешь, и не пострадать из-за этого.
— Знаете, мой дорогой Талливер, — сказал мистер Райли, — вы ведь изрядно заблуждаетесь насчет клириков, ведь именно из них и получаются лучшие учителя. В общем и целом те школьные наставники, кто не принадлежит к их сословию, — люди жалкие и недостойные.
— Да-да, совсем как тот Джейкобз в академии, — вновь вмешалась в разговор миссис Талливер.
— Наверняка. Это люди, не преуспевшие больше ни в чем. А вот представитель духовенства — джентльмен по профессии и образованию. Кроме того, он обладает знаниями, которые позволят мальчику встать на ноги и подготовят к тому, чтобы добиться успеха на любом поприще. Среди клириков встречаются, разумеется, и сущие книжники, но можете быть уверены: Стеллинг не принадлежит к их числу. Это человек, который держит глаза и уши открытыми, уж вы мне поверьте. Ему довольно малейшего намека. Вот вы заговорили о цифрах. Вам стоит лишь сказать Стеллингу: «Я желаю, чтобы мой сын стал прекрасным арифметиком» и предоставить остальное ему.
Мистер Райли выдержал паузу, и мистер Талливер, несколько успокоенный его речами насчет духовенства, уже мысленно представлял, как заявит воображаемому мистеру Стеллингу: «Я хочу, чтобы мой сын разбирался в арифметике».
— Видите ли, мой дорогой Талливер, — продолжал мистер Райли, — имея дело с таким образованным человеком, как Стеллинг, вы можете быть уверены, что он способен обучить кого угодно и чему угодно. Если плотник умеет пользоваться своими инструментами, то ему без разницы, что изготовить — дверь или окно.
— Так-то оно так, — пробормотал мистер Талливер, уже почти склонявшийся к тому, чтобы признать: клирики — лучшие из учителей.
— Вот что я для вас сделаю, — сказал мистер Райли, — а я не разбрасываюсь такими обещаниями. Я повидаюсь с тестем Стеллинга или напишу ему, когда доберусь до Мадпорта, что вы желаете отдать своего сына в руки его зятя, и тогда, смею надеяться, уже сам Стеллинг напишет вам и изложит свои условия.
— К чему такая спешка? — пожелала узнать миссис Талливер. — Надеюсь, мистер Талливер, вы не отправите Тома в новую школу раньше Иванова дня. В академии семестр для него начался на Благовещение, и вы сами видите, что из этого вышло.
— Ладно-ладно, Бесси, не вари пива на худом солоде до Михайлова дня, иначе оно скиснет, — ответствовал мистер Талливер, подмигивая и улыбаясь мистеру Райли с естественной гордостью мужчины, сознающего, что пышущая здоровьем полногрудая супруга явно уступает ему в интеллекте. — Но и впрямь спешки никакой нет, здесь ты попала в самую точку, Бесси.
— На вашем месте я не стал бы откладывать дело в долгий ящик, — негромко возразил мистер Райли, — иначе Стеллингу могут поступить и другие предложения, а мне известно, что более двух или трех учеников-квартирантов он брать не намерен, а может, и того меньше. Я советовал бы вам снестись со Стеллингом немедля: и впрямь нет смысла отправлять к нему мальчика ранее Иванова дня, но я подстраховался бы на всякий случай и позаботился о том, чтобы никто не опередил вас.
— Да, что-то в этом есть, — глубокомысленно изрек мистер Талливер.
— Папочка, — встряла Мэгги, которая вновь незамеченной подкралась к самому отцовскому локтю и, раскрыв рот, прислушивалась к разговору взрослых, держа свою куклу вниз головой и прижавшись носом к дереву кресла, — папочка, а Том уедет далеко отсюда? Мы будем навещать его?
— Не знаю, дитя мое, — нежно отозвался родитель. — Спроси мистера Райли, он знает.
Мэгги тут же подошла к мистеру Райли, остановилась перед ним и сказала:
— Это далеко отсюда, сэр?
— Очень, очень далеко, — ответил сей досточтимый джентльмен, будучи твердо уверенным в том, что с детьми, если они ведут себя прилично, следует обращаться исключительно в игривой манере. — Чтобы добраться до него, тебе понадобятся сапоги-скороходы.
— Какая ерунда! Таких не бывает! — воскликнула Мэгги, высокомерно тряхнув головой и отвернувшись. На глаза девочке навернулись слезы. Она вдруг поняла, что ей не нравится мистер Райли: было очевидно, что он считает ее маленькой и глупой.
— Тише, Мэгги! Как тебе не стыдно, пристаешь к взрослым с вопросами и болтаешь без умолку, — сказала ее мать. — Ступай, присядь на свою скамеечку и держи язычок за зубами. Но, — добавила миссис Талливер, в душе которой вдруг ожили ее собственные страхи, — неужели это и в самом деле настолько далеко, что я не смогу обшивать и обстирывать его?
— Всего каких-нибудь пятнадцать миль, — сказал мистер Райли. — Вы сможете съездить туда и вернуться обратно за один день. Или же Стеллинг, приятный в общении и гостеприимный человек, с радостью приютит вас у себя.
— Но боюсь, для белья это все-таки слишком далеко, — с грустью заключила миссис Талливер.
Появление ужина весьма кстати позволило отложить этот щекотливый вопрос, а заодно и избавило мистера Райли от необходимости подыскивать какое-либо компромиссное решение — поиски какового он в противном случае неизбежно взвалил бы на себя, поскольку, как читатель уже мог убедиться, человеком он был обязательным и покладистым. И ондействительнодалсебетруд отрекомендовать мистера Стеллинга своему другу Талливеру, не рассчитывая на благодарность или иное вознаграждение, вопреки некоторым намекам, которые могли бы ввести в заблуждение слишком уж проницательного постороннего наблюдателя. Ведь нет ничего более предубежденного, нежели проницательность, стоит ей взять неверный след, а проницательность, уверенная, что люди в своих словах и поступках руководствуются четкими мотивами, имея в виду совершенно определенный итог, приводит к неизбежной трате сил на воображаемые игры.
Корыстолюбие и измышления, способные оказать помощь в достижении какой-либо цели, чаще всего встречаются лишь в вымышленном мире драматургии: онитребуют слишком сильного умственного напряжения, чтобы обвинить в нем большинство наших соотечественников-прихожан. Испортить существованиесвоимближним можно легко и без особых усилий, достаточно прибегнуть к неохотному согласию или умолчанию, как и тривиальной неискренности, причину которой мы не можем объяснить себе сами, мелкому обману, компенсируемому мелкой же расточительностью, бестактной лести или неуклюжим инсинуациям. Мы живем сегодняшним днем, во всяком случае, большинство из нас, повинуясь лишь сиюминутным желаниям, и довольствуемся крохами, дабы утолить голод членов своей семьи, редко задумываясь о семенах будущего урожая.
Мистер Райли был деловым человеком, не забывавшим о собственных интересах, но даже он был склонен руководствоваться сиюминутными порывами, а не далеко идущими планами. У него не было никаких личных договоренностей с преподобным Уолтером Стеллингом; совсем напротив, он был мало знаком с магистром искусств и его достижениями — по крайней мере, недостаточно, чтобы оправдать столь положительные его рекомендации, каковые он дал своему другу Талливеру. Но он действительно полагал мистера Стеллинга большим знатоком античной словесности, потому что так говорил Гэтсби, а Гэтсби приходился двоюродным братом преподавателю из Оксфорда, что в данном случае было для Райли куда более веским доводом, нежели собственные наблюдения. Хотя мистер Райли и получил некоторое представление об античности в знаменитой бесплатной государственной школе Мадпорта, а заодно и свел шапочное знакомство с латынью, все-таки утверждать, что он понимает этот язык, было бы большим преувеличением. Вне всякого сомнения, он сохранил кое-какие приятные воспоминания о своем знакомстве с трактатомDeSenectute3 и четвертой книгой «Энеиды», состоявшемся в молодые годы, но они уже успели утратить ауру классики и ныне прослеживались лишь в его красноречивых и напористых выступлениях на аукционах. Кроме того, Стеллинг окончил Оксфордский университет, а его выпускники… хотя нет, пожалуй, отличными математиками считались все-таки выпускники Кембриджа. Но тот, кто получил университетское образование, способен преподавать что угодно, особенно такой человек, как Стеллинг, который однажды держал речь на званом ужине в Мадпорте по случаю какого-то политического события, и она была принята столь тепло, что присутствующие сошлись во мнении: этому зятю Тимпсона палец в рот не клади. Посему не было ничего странного в том, что уроженец Мадпорта, прихожанин церкви Святой Урсулы, не преминул оказать добрую услугу зятю Тимпсона, поскольку сам Тимпсон считался одним из самых влиятельных и полезных столпов прихода; он владел несколькими деловыми предприятиями и знал, как передать их в надежные руки. Мистер Райли с симпатией относился к подобным людям, причем вне зависимости от того, сколько денег могло перекочевать благодаря их трезвому расчету из менее достойных карманов в его собственный, а еще он с удовлетворением мог сказать Тимпсону, вернувшись домой: «Я нашел хорошего ученика для вашего зятя».
У Тимпсона в семье было много дочерей, и Райли сочувствовал ему; кроме того, Луиза Тимпсон, чье лицо обрамляли светлые кудряшки, вот уже почти пятнадцать лет приветливо улыбалась ему по воскресеньям с церковной скамьи, так что не было ничего необычного в том, что ее супруг оказался заслуживающим всяческого уважения преподавателем. Более того, у мистера Райли не числилось в знакомцах другого школьного учителя, которому он мог бы отдать предпочтение в своих рекомендациях, так почему бы и не порекомендовать Стеллинга? Его друг Талливер поинтересовался его мнением, а во время дружеской беседы признаться, что у вас такого мнения не имеется — значит внести в нее холодок. А если уж вы взяли на себя труд свое мнение высказать, то было бы крайне глупо не изложить его с видом уверенным и знающим. Произнося его, вы сами начинаете верить в собственную правоту. Вот и мистер Райли, не зная о Стеллинге ничего порочащего и желая ему только добра, если у него вообще были какие-либо пожелания на его счет,едвауспев порекомендовать его, уже начал думать о нем как о выдающемся человеке, раз уж он сумел заслужить подобную рекомендацию, и вскоре настолько проникся к нему самой искренней симпатией, что если бы мистер Талливер в конце концов отказался бы отдать Тома ему в ученики, то мистер Райли непременно счел бы своего «друга старой школы» полным кретином.
Читатель, если вы готовы обвинить мистера Райли в том, что он дал свои рекомендации, руководствуясь столь сомнительными доводами, то позвольте заметить, что вы уж слишком строги к нему. Почему, собственно, вы ожидаете, что аукционер и оценщик, успевший к тому времени совершенно позабыть школьную латынь, должен проявлять безупречную честность и щепетильность там, где ее не всегда демонстрируют просвещенные джентльмены даже в наше время высокой морали?
Кроме того, человек, в душе которого живет доброта, едва ли способен воздержаться от совершения доброго же поступка, но ведь нельзя творить добро постоянно. Даже природе случается поселить обременительного паразита в теле животного, к которому она не питает никакого предубеждения. И что же? Мы восхищаемся ее заботой о паразитах. Если бы мистер Райли воздержался от того, чтобы дать рекомендацию, не имеющую под собой веских оснований, он не предоставил бы в распоряжение мистера Стеллинга платежеспособного ученика, что, в свою очередь, оказалось бы не слишком хорошо для достопочтенного джентльмена. Следует принять во внимание и то, что все те приятные, смутные и самодовольные мысли и соображения — оказать услугу Тимпсону, дать совет, когда его об этом попросили, произвести впечатление на своего друга Талливера, дабы он проникся к нему еще большим уважением, говорить уверенно, если уж начал говорить вообще, вкупе с прочими неуловимыми мотивами, порожденными пылающим камином и бренди, которые и подтолкнули мистера Райли высказать свое мнение, — в противном случае пропали бы вотще и втуне.
1 Джереми Тейлор (1613—1667) — английский англиканский священник, церковный деятель, епископ, духовный писатель, проповедник. (Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.)
2 Джон Баньян (1628—1688) — английский писатель, баптистский проповедник, чей самый известный труд — «Путешествие пилигрима в небесную страну» («Путь паломника»).
3 «О старости» (лат.), трактат Цицерона.
Глава четвертая. В ожидании Тома
К огромному разочарованию Мэгги, ей не позволили поехать вместе с отцом на двуколке за Томом, чтобы привезти его домой из академии; миссис Талливер заявила, что утро выдалось слишком дождливым для того, чтобы маленькая девочка отправилась в поездку в своем лучшем капоре. Мэгги же была твердо убеждена в обратном, и столь существенная разница во мнениях привела к тому, что, когда ее мать принялась решительно приводить в порядок ее непокорные черные волосы, Мэгги вдруг вырвалась у нее из рук и сунула голову в таз с водой, стоявший поблизости, дабы в порыве мести исключить сегодня саму возможность завивки их в кудряшки.
— Мэгги, Мэгги! — в отчаянии вскричала миссис Талливер, крепко и беспомощно утвердившись на стуле со щетками на коленях. — Кем ты вырастешь, если уже сейчас ведешь себя столь гадко? Я расскажу обо всем тетушке Глегг и тетушке Пуллет, когда они приедут к нам на будущей неделе, и они больше не будут любить тебя. О боже, дорогая моя! Только взгляни на свой чистый передник, он же промок сверху донизу. Люди сочтут, что Господь наказывает меня таким ребенком, и подумают, что я сделала что-нибудь недостойное.
Она все еще причитала, но Мэгги ее уже не слышала, поднимаясь на огромный чердак, раскинувшийся под старомодной крышей с крутыми скатами, и вытряхивая на бегу воду из своих смоляных волос, словно скайтерьер, избежавший купания. Чердак был любимым местом уединения Мэгги, когда на улице шел дождь, если только погода была не слишком холодной. Здесь она выплескивала дурное расположение духа, разговаривая с изъеденными древоточцами полами, полками и темными потолочными балками, украшенными гирляндами паутины; и здесь же она хранила свой Фетиш, который наказывала за все свои несчастья. Это был сундучок для большой деревянной куклы, у которой некогда имелись в наличии круглые глазки над румяными щечками, но теперь лицо ее было обезображено долгими искупительными страданиями. Три гвоздя, вбитых ей в голову, воплощали в себе ровно столько же кризисов, обрушившихся на Мэгги за девять лет ее существования в земной юдоли; на мысль о столь шикарной мести ее натолкнул рисунок в старой Библии, на котором была изображена Иаиль,уничтожающая Сисару4. Причем последний гвоздь был вколочен с куда большей силой, чем предыдущие два, поскольку в том случае Фетиш олицетворял собой тетку Глегг. Но сразу же после этого Мэгги сообразила, что, если она продолжит практику забивания гвоздей, ей будет трудно вообразить, что голове больно, когда она вздумает ударить ею о стену, или притвориться, будто она утешает ее, делая ей припарки, когда гнев ее уляжется; потому что даже тетка Глегг могла удостоиться жалости, если представить, будто ей причинили настолько сильную боль и подвергли столь невероятному унижению, что она обратилась к племяннице с мольбой о прощении. С тех пор она перестала забивать гвозди, утешаясь тем, что скребла или колотила деревянную голову о грубый кирпич огромных дымовых труб, которые, словно великанские колонны, подпирали крышу.
И сегодня утром, взобравшись на чердак, она проделала привычный ритуал, всхлипывая при этом со страстью, которая заставила ее позабыть обо всем — даже о том, что стало причиной ее скорби и негодования. Но постепенно всхлипы утихли, скрип деревянной головы, трущейся о кирпичи, ослабел, и внезапный луч солнца, пробившийся сквозь проволочную решетку и упавший на изъеденные древоточцами полки,заставилее отбросить свой Фетиш и подбежать к окну. На улице действительно выглянуло солнышко, скрип и плескмельничногоколеса вновь обрели жизнерадостность, двери в хлебный амбар стояли распахнутыми настежь, а по двору разгуливал Гав, игривый терьер, белый с коричневыми пятнами и вывернутым ухом; он обнюхивал землю с таким видом, словно искал себе товарища для игр. Устоять передподобным зрелищем было решительно невозможно. Мэгги откинула волосы со лба и бросилась вниз по лестнице, схватив по дороге свой капор, но не став надевать его. Она осторожно выглянула в щелочку, а потом изо всех сил припустила по коридору, боясь столкнуться с матерью, и пулей вылетела во двор, закружившись на месте, словно пифия-предсказательница, напевая при этом: «Гав, Гав, Том едет домой!» Терьер восторженно лаял и скакал вокруг нее, будто говоря, что раз уж повод для веселья найден, то именно он и устроит вокруг него шум.
— Эй, эй, мисс! У вас закружится голова, и вы шлепнетесь в грязь, — сказал Люк, старший мельник, широкоплечий мужчина лет сорока, черноглазый и черноволосый, с ног до головы обсыпанный мучной пылью.
Мэгги притормозила и, легонько пошатываясь, заявила:
— И ничего у меня не закружится, Люк. Можноя пойду с тобой на мельницу?
Мэгги любила бродить по просторам огромной мельницы и зачастую выходила оттуда с припорошенными белой мягкой пылью волосами, отчего ее темные глаза сверкали еще ярче. Назойливый грохот и безостановочное движение больших каменных жерновов внушали ей смутный, благоговейный и восхитительный страх, как если бы она оказывалась в присутствии мощной неуправляемой силы. Изливающаяся бесконечной струйкой мука, невесомый белый порошок, смягчающий всеповерхности, отчего даже паутина выглядела волшебным кружевом, сладкий и чистый запах только что смолотого зерна — все это заставляло Мэгги чувствовать себя так, словно она попала в сказочный маленький мир мельницы, столь разительно отличавшийся от ее повседневной жизни снаружи. Но особенный восторг вызывали у нее пауки. Она спрашивала себя, а есть ли у них родственники за стенами мельницы, поскольку в таком случае в их семейных отношениях возникало неожиданное и болезненное препятствие. Жирный мельничный паук, привыкший вкушать мух, обсыпанных мукой, должен испытывать нешуточные страдания, сидя за столом у кузенов и кузин, где мух подавалиau naturel, в натуральном виде, а паучихи наверняка ужасались виду друг друга. Но более всего на мельнице она любила верхний этаж — закрома, где высились огромные кучи зерна, на которые она забиралась и медленно съезжала вниз. У нее была привычка предаваться любимому развлечению, разговаривая при этом с Люком, с которым она вела себя чрезвычайно общительно, поскольку хотела, чтобы и он, подобно отцу, восхищался ее сообразительностью.
Не исключено, что в то утро она сочла необходимым отвоевать у него прежние позиции, и, съезжая с кучи зерна, возле которой возился и он, сказала, стараясь перекричать тот надоедливый шум, что почитается такимнеобходимым в сообществе мукомолов:
— Люк, а ведь ты, наверное, не прочел больше ниоднойкниги, кроме Библии?
— Да, мисс, да и ту не осилил, по правде говоря, — с подкупающей откровенностью отозвался Люк. — Никудышный из меня книгочей.
— А что, если я одолжу тебе одну из своих, Люк? Правда, у меня нет таких интересных книжек, которые тебе было бы легко прочесть. Зато я могу дать тебе«Путешествия обезьянки по Европе», которая расскажет тебе о том, какие разные люди живут на свете. А если читать ее будет трудно, то тебе помогут картинки. Там нарисованы те самые люди, как они выглядят и что делают. Особенно мне нравятся голландцы, толстые как на подбор, и с трубками, а один даже сидит на бочке.
— Нет, мисс, не по нраву мне голландцы. Какой прок в том, чтобы узнавать что-нибудь о них?
— Но они такие же люди, как и мы, Люк, а мы должны знать все о своих ближних.
— Да какие ж они нам ближние, мисс? Вот, к примеру, мой прежний хозяин, уж на что был знающий человек, так и то говорил: «Будь я хоть голландцем, но не стану сеять пшеницу, не провеяв ее», а ведь это то же самое, что обозвать их дураками или вроде того. Нет уж, у меня и без голландцев хлопот полон рот. От дураков и мошенников и так отбою нет, чтобы я еще и в книгах их выискивал.
— Ладно, — сказала Мэгги, несколько сбитая с толку неожиданно решительным настроем Люка по отношению к голландцам. — Пожалуй, «Живая природа» понравится тебе больше. Там нет ни голландцев, ни немцев, зато есть слоны и кенгуру, и циветта, и рыба-луна, и еще птичка, сидящая у нее хвосте, — я забыла, как она называется. Знаешь, в некоторых странах они водятся вместо лошадей и коров. Разве тебе не хочется узнать о них побольше, Люк?
— Нет, мисс. Мне и так надо считать муку и зерно, так что я как-нибудь обойдусь без всех этих штук, от которых для моей работы никакой пользы. От этого люди и попадают на виселицу — когда знают все, кроме того, как заработать себе на кусок хлеба. Да и сдается мне, все, что напечатано в книгах, — враки от начала и до конца, а уж в тех, что продают на улицах, и подавно.
— Знаешь, Люк, ты очень похож на моего брата Тома, — сказала Мэгги, стремясь направить столь неудачно обернувшийся разговор в какое-нибудь более благополучное русло. — Том тоже не любит читать. Но все равно я очень сильно его люблю, Люк, сильнее всех на свете. Когда он вырастет, я буду вести его дом и хозяйство, и мы всегда будем жить вместе. Я могу рассказать ему обо всем, чего он не знает. И пусть Том не любит книги, я думаю, что он очень умный. Он умеет мастерить отличные хлысты и крольчатники.
— Ага, — согласился Люк, — вот только он здорово расстроится, потому что все кролики передохли.
— Передохли! — взвизгнула Мэгги, спрыгивая с кучи зерна. — Какая жалость, Люк! Что, и тот вислоухий, и пятнистая крольчиха, на которую Том потратил все свои деньги?
— Дохлые, как кроты, — подтвердил Люк, которого на подобное сравнение явно натолкнули тушки зверьков, пришпиленных к стене конюшни.
— Боже мой, Люк… — жалобно протянула Мэгги, по щекам которой потекли крупные слезы. — Том велел мне ухаживать за ними, а я забыла. Что же мне теперь делать?
— Видите ли, мисс, они жили в дальнем сарае с инструментами, и никто за ними не ухаживал. Думаю, что мастер Том велел Гарри кормить их, но ведь на Гарри ни в чем нельзя положиться, он не умеет держать слова. А если и помнит о чем, так только о своем брюхе — чтоб его скрутило!
— Ох, Люк! Том же просил меня помнить о кроликах каждый день, но как, скажи на милость, я могла это сделать, если мысль о них даже ни разу не пришла мне в голову? Ой, он так на меня разозлится, точно тебе говорю, и будет убиваться о кроликах, как и я. Нет, но что же мне делать?
— Не кручиньтесь, мисс Мэгги, — попытался успокоить девочку Люк. — Бесполезные они твари, эти вислоухие кролики. Им случалось дохнуть, даже когда их кормили как на убой. В неволе они не выживают: Господь наш всемогущий терпеть их не может. Он сделал так, что уши у кроликов должны смотреть назад, а они изчистого упрямства свешивают их вниз. А мастер Том в следующий раз будет умнее и не станет их покупать.Не тужите, мисс. Пойдемте-ка лучше ко мне домой, я познакомлю вас с моей женой. Вот сию минуту и пойдем.
Приглашение пришлось как нельзя кстати, поскольку позволило Мэгги забыть о своих несчастьях, и слезы постепенно высохли у нее на щеках, пока она вприпрыжку вышагивала рядом с Люком, направляясь к его симпатичному домику, окруженному яблонями и грушами, с пристроенным сбоку хлевом, расположенному на дальнем краю владений Талливеров. Знакомство с миссис Моггз, женой Люка, оказалось даже весьма приятным. Она выразила свое гостеприимство хлебом с патокой, а еще у нее обнаружилось множество самых настоящих произведений искусства. Мэгги и думать забыла, что еще сегодня утром у нее имелись веские причины для того, чтобы впасть в уныние. Стоя на стуле, она во все глаза разглядывала замечательную коллекцию картин, на которых блудный сын был изображен в костюме сэра Чарльза Грандисона5, разве что, как и следовало ожидать от человека со столь дурной репутацией, он, в отличие от сего изысканного героя, не нашел в себе силы воли и вкуса, дабы избавиться от парика. Но та тяжесть, которую мертвые кролики возложили ей на сердце, заставила ее проникнуться необычайной жалостью к этому слабому духом молодому человеку, особенно когда на глаза ей попалась картина, где он, понурившись, прислонился к стволу дерева с расстегнутыми бриджами и сбившимся набок париком, пока какие-то свиньи, явно чужеземных кровей, словно для того, чтобы еще сильнее досадить ему, с аппетитом пожирали мякину.
— Я так рада, что отец принял его обратно. Правда, Люк? — сказала она. — Потому что он ведь раскаялся и больше не поступит дурно.