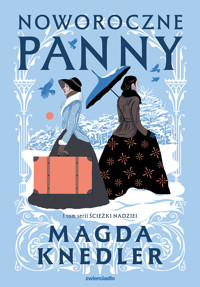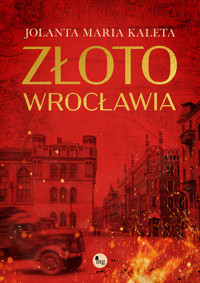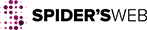9,90 zł
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: КСД
- Kategoria: Powieści przygodowe i historyczne
- Język: rosyjski
Отважный Спартак поднял бунт, когда римская армия, нарушив мирный договор, вторглась в его родные земли. Теперь он гладиатор и обречен на мучительную смерть на арене на потеху толпе.
Но Спартак не только выжил, непобедимый боец стал любимцем зрителей, получил свободу и теперь готов бросить вызов Римской империи. Из гладиаторов, рабов и варваров он собирает могучее войско.
Сможет ли прекрасная римлянка Валерия заставить его забыть о мести?
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:
Liczba stron: 815
Podobne
Спартак
Рафаэлло Джованьоли
Во времена Великой Империи, когда смерть была самым лучшим развлечением для толпы, на аренах Рима сражались не на жизнь, а на смерть рабы-гладиаторы. Имя одного из них стало легендой… Спартак. Раб-фракиец. Варвар. Великий воин. Именно Спартак бросил вызов Римской империи и стал предводителем величайшего восстания рабов. На его долю выпали жестокая борьба за выживание, грандиозные сражения, опьяняющая власть и любовь прекраснейшей из женщин…
Рафаэлло Джованьоли
Спартак
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2015
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2015
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2015
ISBN 978-966-14-9553-0 (epub)
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
I
Бой гладиаторов
За четыре дня до ноябрьских ид (10 ноября) 675 года римской эры, в правление консулов Публия Сервилия Вотия Изаврийского и Аппия Клавдия Пулькра, Рим с самого восхода солнца кишел народом, со всех концов города стекавшимся к большому цирку.
Из узких извилистых переулков плебейских кварталов Эсквилина и Субурры толпами валили люди всех сословий и рассыпались по главным улицам — Таберноле, Фигуле и другим, которые вели к цирку.
Горожане — рабочие, вольноотпущенники, престарелые покрытые рубцами гладиаторы, бледные изувеченные ветераны победоносных легионов, покорители Азии, Африки и кимвров, женщины из простонародья, фигляры, скоморохи, плясуны и целые стаи скачущих детей, — все это текло к цирку бесконечным потоком. На лицах было написано беззаботное веселье; у всех глаза блестели ожиданием и любопытством, показывавшими, что толпа собирается на какое-то интересное дармовое зрелище. Этот бесконечный поток людей наполнял улицы великого города таким шумным гулом и жужжанием, какого не произвели бы тысячи пчелиных роев.
Веселость, написанную на лицах квиритов, не омрачал вид неба, сулившего скорее дождливый, нежели солнечный день. С окрестных холмов дул свежий утренний ветерок.
Цирк, построенный Тарквинием Старшим после 138 года римской эры и весьма расширенный Тарквинием Гордым, стал называться Большим после того, как цензор Фламиний соорудил другой цирк в 533 году.
В то время, когда начинается наш рассказ, Большой цирк, расположенный в Мурцийской долине, между Авентинским и Палатинским холмами, еще не был таким просторным и роскошным, каким сделался при Юлии Цезаре и Октавии Августе; но уже и в ту пору это было грандиозное здание внушительных размеров. Цирк имел две тысячи сто восемьдесят футов длины, девятьсот девяносто восемь — ширины и мог вместить более ста двадцати тысяч зрителей.
Западная сторона цирка, имевшего скорее овальную, чем круглую форму, представляла прямую линию, а восточная замыкалась полукругом. На прямой линии высился оппидум, здание из тридцати арок, посреди которого находился один из двух главных входов цирка, называвшийся Парадными воротами, так как в них входили на арену перед началом игрищ процессии с изображениями богов. Под остальными арками находились карцеры — помещения для колесниц и лошадей, когда арена служила ристалищем, и для гладиаторов и диких зверей, когда предстояли смертоносные бои — самые заманчивые зрелища для римского народа. С одной стороны Парадных ворот были расположены амфитеатром места для зрителей, пересекаемые лестницами, которые спускались с наружной стороны к входам в цирк. Ступени амфитеатра завершались портиком под арками, с местами для дам.
Против Парадных ворот находились Триумфальные ворота, служившие для победителей, а поблизости Парадных ворот отворялась «погребальная дверь», через которую вытаскивались с арены с помощью длинных крючьев окровавленные и обезображенные тела мертвых или умирающих гладиаторов. Над арками на платформе были устроены места для консулов, судей, сенаторов и весталок.
Посреди арены, между двумя главными воротами, тянулась низкая стена, определявшая протяжение ристалища; на обоих концах ее располагались группы небольших колонн, а на самой середине стены возвышался обелиск солнца, окруженный колоннами и статуями. Места для зрителей защищались изнутри высоким парапетами, опоясанным каналом с водой и железным решетчатым палисадником: своеобразная защита от нападения разъяренных зверей, свирепствовавших на арене.
В этом огромном здании, достойном народа, победоносные орлы которого уже облетели весь мир, весь день толпился народ: плебеи, а также воины, патриции, матроны, — словом, все, кто искал интересных и приятных развлечений.
Что же ожидалось в описываемый нами день? На какое зрелище стекались эти толпы народа?
Луций Корнелий Сулла Счастливый, властитель Италии и гроза Рима, желая, должно быть, отвлечься от мучившей его уже два года неизлечимой болезни, за несколько недель велел объявить, что римскому народу три дня кряду будут даваться банкеты и увеселительные зрелища.
Уже накануне вся римская чернь угощалась на Марсовом поле и на набережной Тибра за столами, накрытыми для нее по повелению свирепого диктатора. Толпа шумно пировала до поздней ночи, и пир перешел под конец в самую разнузданную оргию. Народ был обязан этим пиром желанию страшного врага Кал Мария блеснуть более чем царской щедростью. В триклинии, разбитом под открытым небом для угощения квиритов, текли в изобилии самые дорогие вина и щедро раздавались кушанья.
О безумной расточительности Суллы можно судить уже по тому, что в продолжение этих празднеств, дававшихся в честь Геркулеса, которому диктатор принес в жертву в эти дни десятую часть своего состояния, большое количество съестного бросалось в реку, и разливалось вино, более сорока лет хранившееся в погребах.
Таким способом диктатор дарил римскому народу левой рукой то, что награбила у него хищная правая; и квириты принимали от него эти банкеты и увеселения с довольным видом, хотя весь римский народ питал глубокую, неискоренимую ненависть к Луцию Корнелию Сулле.
Было уже около полудня. Солнце, сначала едва выглядывавшее из-за туч, постепенно засияло ярко и облило своими лучами вершины холмов, храмы и дворцы патрициев, сверкавшие белоснежным мрамором. Народ, согретый живительными лучами, рассыпался по ступеням цирка.
Сто с лишним тысяч зрителей расселось по этим ступеням, чтобы полюбоваться самым любимым зрелищем римского народа — кровопролитной борьбой гладиаторов и диких зверей. Среди этой стотысячной толпы выделялись на лучших местах живописные группы матрон, патрициев, всадников, сборщиков податей, серебреников, богатых иностранцев, съехавшихся в Вечный город изо всех частей Италии и всего мира.
Трудно изобразить величие и пестроту панорамы, какую представлял в такие минуты Большой цирк: пестреющие всеми красками туники, тоги, пеплумы, столы; волнующиеся кудри, машущие руки; несмолкаемый рокот стотысячной толпы, похожий на гул и клокотанье вулкана.
Многие вынимали принесенную с собою провизию и с аппетитом ели холодное мясо, ветчину, любимую кровяную колбасу или сухари с медом, перекидываясь остротами, не всегда пристойными шутками и поддерживая в себе веселье частыми возлияниями. В некоторых местах продавались дешевые лакомства — пряники, жареный горох. Плебеи покупали их, чтобы помочь убить время своим женщинам и детям. Для утоления жажды, вызываемой жареным горохом, тут же покупалось и вино, вернее, напиток, не по праву претендовавший на звание тускуланского вина.
На третьей ступени, близ Триумфальных ворот, между двумя кавалерами восседала матрона замечательной красоты. Высокая, стройная, гибкая, с роскошными плечами, она являлась истинной дочерью Рима. Правильные черты лица, высокий лоб, тонко вылепленный нос, маленький рот, губы которого сулили страстные поцелуи, большие черные живые глаза, — все придавало этой женщине чарующую прелесть. Густые шелковистые волосы цвета воронова крыла, придержанные на лбу диадемой, сверкавшей драгоценными камнями, спадали на плечи обильными кудрями. Красавица была одета в белую тунику из тончайшей шерстяной материи, обшитой золотой бахромой и позволявшую любоваться стройными линиями ее тела. Поверх туники ниспадала изящными складками белая палла на пурпурной подкладке. Эту блиставшую красотой и роскошью женщину, которой нельзя было дать по наружности и тридцати лет, звали Валерией. Она была дочь Валерия Мессалы и единоутробная сестра знаменитого оратора, Квинта Гортензия, соперника Цицерона и впоследствии консула. За несколько месяцев до того времени, с которого начинается наш рассказ, муж Валерии развелся с ней под предлогом ее бесплодия. Истинной же причиной развода, как говорили почти вслух в Риме, было неблаговидное поведение жены. Общественное мнение считало Валерию женщиной развратной, и тысячи уст шепотом передавали рассказы о ее любовных похождениях. Как бы то ни было, предлог, под которым состоялся развод, защитил ее честь от таких обвинений.
Возле Валерии сидел Эльвий Медуллий, бледное лицо которого отличало кислое, скучающее выражение. В тридцать пять лет ему уже наскучила жизнь. Эльвий Медуллий принадлежал к тем изнеженным, пресыщенным наслаждениями римским патрициям, которые составляли римскую олигархию. Они предоставляли плебеям покорять народы, завоевывать страны и умирать со славой за отечество; сами же предпочитали проедать свои наследственные богатства среди роскоши и праздности, если не грабить какую-нибудь провинцию, порученную их управлению.
По другую сторону от красавицы виднелось красное, круглое и веселое лицо Марка Деция Цедикия, патриция лет пятидесяти, проводившего половину дня в отведывании тонких блюд, которые изготовлял повар, славившийся своим искусством на весь Рим. Остальная половина дня проходила в предвкушении приятных ощущений, которые ему предстояло снова испытать за ужином.
К этой же группе присоединился, пришедший позже других Квинт Гортензий, славившийся на весь мир своим красноречием. Ему не было еще тридцати шести лет. Он так долго упражнялся в искусстве придавать изящество своим жестам и речи, так хорошо усвоил умение управлять каждым своим движением и словом, что в сенате ли, в триклинии ли, или в другом месте, вся его фигура всегда была преисполнена удивительного благородства и величия, которые казались совершенно естественными.
Он одевался обыкновенно в темные цвета, но складки его тоги были расположены с заранее продуманным изяществом, что содействовало производимому им привлекательному и внушительному впечатлению.
В эту пору своей жизни он уже успел пожать военные лавры в легионах, сражавшихся с союзными итальянцами в так называемой социальной войне, и за два года сделался сначала центурионом, а затем и трибуном.
Гортензий был не только ученым и красноречивым оратором, но также и замечательным артистом. Половиной своих успехов он был обязан своему мелодическому голосу и всем тонкостям декламаторского искусства, которыми владел в совершенстве. Знаменитый в ту пору трагик Эзоп и не менее славившийся Росций приходили на форум слушать его речи, чтобы поучиться у него декламаторскому искусству.
Пока Гортензий, Валерия и двое других кавалеров ее беседовали между собой, а один отпущенник бегал, по желанию матроны, за таблицей, на которой были написаны имена гладиаторов, что должны были выступить в этот день на арене, священная процессия с изображениями богов обошла вокруг срединной стены и поставила эти изображения на платформу на стене.
Неподалеку от места, где находились уже знакомая нам группа, сидели под надзором своего учителя два юные патриция, одетые в белые тоги на пурпурной подкладке. Одному из них можно было дать лет четырнадцать, другому — лет двенадцать, и оба своими широкими костлявыми лицами с резко очерченными линиями представляли чисто римский тип. Это были Цепион и Катон из фамилии Порция, внуки Катона Цензора, прославившегося во времена Второй Пунической войны и настаивавшего на разрушении Карфагена.
Младший из двух братьев, Цепион, казался более разговорчивым и любезным, чем его брат, и часто обращался к Сарпедону, своему учителю, но юный Марк Порций Катон оставался молчаливым и угрюмым, и брови его были насуплены совсем несоответственно его возрасту. У него уже с этого возраста замечалась необыкновенная твердость характера и стойкость убеждений. Рассказывали, что, когда ему было восемь лет, Марк Помпедий Силон, один из главных предводителей итальянцев в войне за право римского гражданства, взял его однажды на руки в доме его дяди Друза и выставил за окно, грозя страшным голосом сбросить его на мостовую, если он не заступится перед своим дядей за итальянских граждан. Но, несмотря на угрозы, Помпедию не удалось вырвать у ребенка ни единого слова и ни малейшего движения, которое свидетельствовало бы о страхе или о готовности уступить. Из этого четырнадцатилетнего мальчика, наделенного от природы железным характером, уже складывался, благодаря изучению греческих философов, в особенности стоиков, а также под влиянием традиций, завещанных его суровыми предками, тот идеальный гражданин, который лишил себя жизни в Утике, унеся с собою в могилу знамя латинской свободы.
Над Триумфальными воротами, у самого выхода, сидел со своим учителем другой мальчик-патриций и разговаривал с юношей лет семнадцати с еле пробивающеюся растительностью на лице, но уже одетым в тогу, как взрослый. Юноша был маленького роста, слабого телосложения, с бледным лицом в рамке блестящими черных волос и с большими черными глазами, в которых светился живой ум. Это был Тит Лукреций Кар, из благородной римской фамилии, составивший себе впоследствии бессмертное имя своей поэмой «О природе вещей».
Другим мальчиком, имевшим более бравый вид, был двенадцатилетний Гай Лонгин Кассий, сын консула Кассия, и также потомок патрицианской фамилии. Он был предназначен судьбой к одной из самых блестящих ролей в истории событий, предшествовавших падению римской республики и сопровождавших его.
Юноши оживленно беседовали. Будущий великий поэт, уже два или три года посещавший дом консула, открыв в юном Кассии рано развившийся ум и благороднейшее сердце, горячо привязался к нему. И Кассий не менее полюбил Лукреция, с которым его сближали сходство чувств и стремлений, одинаковое презрение к жизни, одинаковые взгляды на людей и богов.
Неподалеку от Лукреция и Кассия сидел сын Суллы, Фауст, хилый юноша с бледным лицом, испещренным следами недавних ушибов, с рыжими волосами и голубыми глазами. По тщеславному выражению его хитрого лица можно было угадать, что ему нравится, когда на него указывают, как на сына счастливого диктатора.
Между тем на арену уже выступили гладиаторы-ученики и сражались с похвальным усердием мнимо-геркулесовскими палицами и деревянными мечами, в ожидании прибытия консулов и Суллы, доставившего римлянам это удовольствие.
Пока шло это безобидное сражение, которым никто не интересовался, кроме старых легионеров и отставных гладиаторов, ветеранов, выдержавших сотни битв, в громадном амфитеатре вдруг раздались оглушительные, почти единодушные рукоплескания.
— Да здравствует Помпей!.. Да здравствует Помпей Великий! — кричали тысячи голосов.
Вошедший в цирк Помпей занял место на платформе оппидума, около весталок, уже сидевших на своих местах в ожидании кровавого зрелища, которое нравилось даже этим девам, посвятившим себя служению целомудренной богине. Помпей поднялся с места и грациозно поклонился, посылая толпе воздушные поцелуи в знак признательности.
Кнею Помпею было в это время около двадцати восьми лет. Он был высокого роста и богатырского сложения, с густой шапкой черных волос, спускавшихся почти до бровей, из-под которых властно глядели большие черные глаза, не отличавшиеся, однако, выразительностью и подвижностью. Строгие и резкие черты его красивого лица и могучие формы тела производили впечатление мужественной красоты. И, однако, вряд ли кто усмотрел бы в его лице признаки возвышенных идей и способности на великие дела, хотя этот человек в продолжение двадцати лет играл первую роль в Римской империи. Двадцатипятилетним юношей он одержал победы в Африке и сам Сулла, в припадке необъяснимого благодушия, дал ему прозвище Великого.
Но как бы кто ни смотрел на Помпея и на его счастье, дела и заслуги, а несомненно, что при появлении его в Большом цирке 10 ноября 675 года все симпатии римского народа были на его стороне. В двадцать пять лет он уже был увенчан лаврами побед и снискал себе такую популярность среди легионов, закаленных в боях и опасностях, что они провозгласили его императором.
Быть может, своею популярностью среди римского народа Помпей был обязан отчасти ненависти римского плебса к Сулле. Не смея выразить эту ненависть иначе, римляне рукоплескали молодому человеку, который хотя и считался другом диктатора, но доказал свою способность достигать великих подвигов собственными силами.
Вскоре после Помпея прибыли в цирк консулы Публий Сервилий и Аппий Клавдий, срок службы которых на этих постах окачивался 1 января следующего года. Сервилию, очередная служба которого приходилась на этот месяц, предшествовали ликторы; за Клавдием же, исполнявшим консульские обязанности в предшествовавшем месяце, следовали люди с пучками прутьев в руках, в знак его консульского звания.
Когда консулы вступили на платформу оппидума, вся публика поднялась с мест из уважения к высшей власти в республике и снова села только после того, как Сервилий и Клавдий заняли свои места. Возле них поместились двое консулов уже избранных комициями на следующий год — Марк Эмилий Лепид и Квинт Лутций Катулл.
На поклон Помпея консулы ответили благосклонно, даже почтительно, после чего тот подошел пожать руку Марку Лепиду, который был обязан своим избранием Помпею, поддержавшему его кандидатуру своим всесильным влиянием и действовавшему в этом случае наперекор желанию Суллы.
Лепид ответил на приветствие с почтительной любезностью и вступил в разговор с молодым полководцем, между тем как будущему коллеге Лепида Помпей отдал только холодный и гордый поклон.
Во время выборов новых консулов Сулла, хотя уже отказавшийся от диктатуры, всеми силами противодействовал кандидатуре Лепида, не без причины подозревая в нем своего врага и приверженца Гая Мария. Это противодействие, даже помимо поддержки Помпея, способствовало тому, что кандидатура Лепида не только прошла в комициях, но и получила первенство перед кандидатурой Катулла, которого поддерживала олигархическая партия. Сулла не преминул упрекнуть Помпея за поддержку Лепида.
Прибытие консулов положило конец состязанию учеников, толпа настоящих гладиаторов ждала только сигнала, чтобы выступить на арену и, согласно обычаю, продефилировать перед правителями. Все взоры были обращены на оппидум в ожидании сигнала консулов к началу борьбы; но те обводили глазами ступени амфитеатра, словно ища кого-то, кто должен подать ожидаемый сигнал. Они, действительно, ждали Суллу, который, хотя и сложил с себя диктатуру, но по-прежнему оставался верховным властителем Рима.
Наконец раздались рукоплескания, сначала слабые, но постепенно разраставшиеся и в конце концов загремевшие по всему цирку. Все глаза обратились к Триумфальным воротам, в которые в эту минуту входил Сулла в сопровождении многих сенаторов, друзей и клиентов. Этому необыкновенному человеку было в эту пору пятьдесят девять. Скорее высокого, чем среднего роста, он был хорошо и крепко сложен, и если шествовал в эту минуту медленными и нетвердыми шагами, как человек с разбитыми силами, то сие было только последствием необузданных оргий, которым он предавался всю жизнь, а в последнее время более чем когда-либо. Но главной причиной его расслабленности была мучительная, неизлечимая болезнь, наложившая на его черты и на всю фигуру печать страдания и ранней старости.
Лицо Суллы было поистине ужасно, хотя правильные черты, высокий лоб, орлиный нос и полные властные губы большого рта должны были бы сделать его красивым. Эти правильные черты обрамлялись густыми рыжеватыми волосами и освещались парой серо-голубых глаз, живых, глубоких, проницательных, ярких, как у орла, хитрых и свирепых, как у гиены. В каждом взгляде их читалась жажда власти или крови.
Читатели, конечно, найдут, что нарисованный нами портрет не оправдывает эпитета «ужасный», но дело в том, что лицо Суллы было покрыто красноватой сыпью вперемежку с белыми пятнами, что делало его похожим, по выражению одного афинского сатирика, на негра, обсыпанного мукой.
Если и в молодости Сулла был безобразен, то легко понять, как увеличилось это безобразие за годы злобы и разврата, отравлявших его кровь. Оргии сделали свое дело: не только лицо, но и все тело Суллы покрылось гнойными прыщами и болячками.
Он вошел в цирк со скучающим видом. Вместо обычной тоги на нем была надета, поверх белой шерстяной туники с золотыми арабесками, обшитой такой же бахромой, ярко-пурпурная хламида, также расшитая золотом и пристегнутая на правом плече золотым аграфом, осыпанным драгоценными камнями, сверкавшими на солнце. Как человек, презирающий человечество вообще и своих сограждан в частности, он был одним из первых, кто стал носить вместо римской тоги греческую хламиду. В руке он держал трость с золотым набалдашником, на котором с неподражаемым искусством был вырезан эпизод из сражения при Оркомено, в котором Сулла остался победителем.
Рукоплескания толпы вызвали у него сардоническую улыбку, и он пробормотал:
— Рукоплещите, рукоплещите, глупые бараны!
В эту минуту консулы дали знак начинать, и гладиаторы числом сто человек выступили на арену.
Впереди шли рециарий и мирмильон, которые должны были сразиться первыми. Трудно было поверить, что эти двое людей, которые шли рядом, мирно разговаривая, через минуту должны будут стараться убить друг друга. За ними следовали девять лаквеаторов, вооруженных только трезубцами и сетями, которые они должны были стараться накинуть на девятерых секуторов, с мечами и щитами, долженствовавших преследовать бегущих по арене лаквеаторов, если тем не удастся накинуть на них сети.
За этими девятью парами следовали тридцать пар гладиаторов, которым предстояло разделиться на две партии, чтобы изобразить настоящее сражение малыми силами. Это были тридцать фракийцев и столько же самнитов, красивые молодые люди огромного роста и богатырского сложения.
Фракийцы были вооружены короткими, загнутыми на концах мечами и держали в руках квадратные выпуклые щиты. Одеты они были во фракийский национальный костюм — короткую алую тунику и шлем без забрала, с двумя черными перьями. Самниты были в национальных костюмах самнитских воинов — в голубой тунике и шлеме с крыльями и двумя белыми перьями. Вооружение их состояло из короткого прямого меча, небольшого квадратного щита, железного наручника на правой руке и набедренника на левой ноге.
Шествие завершали десять пар андабатов, в коротких белых туниках и вооруженных только коротким кинжалом. Шлемы их были с опущенным забралом, в котором были проделаны лишь узкие отверстия для глаз с тем, чтобы эти несчастные, выгнанные на арену, дрались, как бы играя в жмурки, на посмешище толпе. После того, как она достаточно натешится, служители цирка, лорарии, должны были понуждать их раскаленным железом выстраиваться друг против друга и сражаться насмерть. Сто гладиаторов обошли вокруг цирка под крик и рукоплескания зрителей и, остановившись перед местом, где сидел Сулла, подняли голову и прокричали, согласно инструкции своего наставника Ациана:
— Приветствуем тебя, диктатор!
— Недурно, недурно! — сказал Сулла окружающим, обозревая опытным взглядом победоносного полководца ряды гладиаторов. — Эти молодцы обещают интересное зрелище. В противном случае горе Ациану! Ведь за эти пятьдесят пар гладиаторов плут стянул с меня двести двадцать тысяч сестерциев!
Гладиаторы, обойдя вокруг цирка и поклонившись консулам, вернулись в свои карцеры. На арене, блестевшей на солнце, как серебро, остались только двое, мирмильон и рециарий, стоявшие друг против друга.
Вся публика притихла, и все взоры были сосредоточены на двух борцах, готовых сразиться.
Мирмильон, родом галл, был двадцатидевятилетний красивый белокурый юноша, рослый и ловкий. Шлем его был украшала серебряная рыба; одной рукой он держал небольшой щит, другой — короткий широкий меч. Рециарий, в простой голубой тунике, вооруженный только трезубцем и сетью, стоял в двадцати шагах от противника и казалось, обдумывал, как бы половчее напасть и накинуть на него сеть.
Мирмильон, скорчившись и согнув колени, готовый к прыжку, выжидал нападения и держал меч полуопущенным у правого бедра.
Рециарий вдруг рванулся и, пронесшись мимо противника, с быстротою молнии набросил на него сеть. Но тот быстрым движением откинулся в сторону, пригнувшись почти до земли, а потом вскочил и бросился на рециария, который, видя, что маневр его не удался, пустился бежать.
Мирмильон преследовал его, но рециарий был гораздо проворнее и, успев обежать вокруг арены до того места, где лежала eго сеть, схватил ее. Едва он успел сделать это, как мирмильон yже почти настиг его. Рециарий, обернувшись и увидев, что противник готов нанести ему удар, снова набросил на него сеть. Однако мирмильон и на этот раз успел избежать ловушки, выскользнув из-под нее на четвереньках.
Мирмильон вскочил на ноги, и удар трезубцем, направленный в него противником, встретил щит галла.
Рециарий снова пустился бежать, и в толпе послышался негодующий ропот. Публика считала себя оскорбленной тем, что неопытный гладиатор, не умеющий искусно владеть сетью, осмелился предстать в цирке.
На этот раз мирмильон, вместо того чтобы преследовать врага, вернулся к тому месту, где упала сеть, и встал в нескольких шагах от нее. Рециарий, поняв его маневр, остановился и тихо пошел назад, прячась за стеной, разделявшей арену. Дойдя той части цирка, где находились Парадные ворота, он выбежал из-за стены в нескольких шагах от своей сети. Поджидавший его мирмильон тотчас бросился к нему навстречу, между тем как тысячи голосов свирепо кричали:
— Держи его, держи!.. Убей рециария, убей этого неуча, труса!.. Зарежь его!.. Отправь ловить лягушек на берегу Ахерона!
Мирмильон, подстрекаемый криками толпы, все сильнее и сильнее напирал на противника, который, побледнев, старался отдалить его своим трезубцем, делая в то же время всевозможные усилия, чтобы схватить свою сеть. Но мирмильон, отклонив трезубец своим щитом, уже направил свой меч в грудь врага, как вдруг тот, бросив трезубец на щит противника, ловко схватил с земли свою сеть. Он не успел, однако, сделать это настолько быстро, чтобы меч мирмильона не врезался ему плечо, из которого фонтаном брызнула кровь. Это не помешало рециарию проворно убежать со своею сетью. Отбежав шагов тридцать, он обернулся и громко крикнул:
— Рана легкая!.. Не беда!
А потом запел:
— Приди ко мне, приди, мой прекрасный галл! Не тебя мне нужно, а твою рыбу. Приди ко мне, мой галл! Не тебя мне нужно, а твою рыбу. Приди, приди ко мне, мой галл!
Уловка рециария, имевшая целью вернуть ему сочувствие публики, удалась вполне: песенка вызвала в толпе взрыв хохота, многие принялись даже рукоплескать этому человеку, которому инстинкт жизни помог найти в себе настолько мужества, чтобы ответить и школьничать в ту минуту, когда он, — обезоруженный, раненый, — истекал кровью.
Мирмильон, взбешенный насмешками врага и замечая, что сочувствие публики переходит от него к противнику, яростно бросился вслед за ним. Но рециарий, отступая прыжками и предусмотрительно избегая удара, продолжал кричать:
— Приди ко мне, мой галл! Сегодня, вечером, я пошлю жареной рыбы доброму Харону!
Эта шутка произвела громадный эффект и вызвала новое падение мирмильона. Но на этот раз рециарий так ловко накинул на него сеть, что совершенно опутал его ею при оглушительных рукоплесканиях зрителей.
Мирмильон делал невероятные усилия, чтобы выпутаться, но он только больше запутывался, вызывая этим общий смех публики.
Тем временем рециарий побежал за своим трезубцем. Взяв его, он вернулся к противнику, крича на бегу:
— Будет у Харона рыба, будет у Харона рыба!
Но в ту минуту, когда он уже готов был нанести врагу удар своим трезубцем, мирмильон сделал отчаянное усилие и, разорвал богатырскими руками сеть, высвободил руки, чтобы встретить удар. Ноги же его оставались опутанными и, несмотря на усилия, не могли сдвинуться с места.
Новый взрыв рукоплесканий огласил цирк, и все зрители стали следить с напряженным вниманием за каждым движением борцов, от малейшего движения их мог зависеть теперь исход борьбы. В то самое мгновение, когда мирмильон порвал сеть, рециарий, собрав всю свою силу, нанес ему страшный удар трезубцем. Мирмильон успел прикрыться щитом, но от удара щит разбился на куски, железные зубцы вонзились в обнаженную руку гладиатора, из которой потекла кровь. Мирмильон быстрым движением схватил трезубец левой рукой и, бросившись на врага всею тяжестью тела, вонзил меч до половины лезвия в его правое бедро. Раненый рециарий, оставив трезубец в руках противника, побежал, оставляя за собою кровавый след, но, не сделав и сорока шагов, опустился на колени и затем распростерся на земле. От напряжения, с которым мирмильон нанес удар, он и сам не устоял на ногах, потом вскочил и, распутав руками свои ноги, бросился к упавшему врагу.
Бурные рукоплескания, сопровождавшие последний акт борьбы, продолжались и в то время, когда рециарий, приподнявшись на локте, показал народу свое мертвенно-бледное лицо. Приготовившись бесстрашно и с достоинством встретить смерть, он использовал однако, предписываемое обычаем правило: попросил публику оставить ему жизнь, хотя не питал никакой надежды, что просьба будет исполнена.
Между тем мирмильон стоял, упираясь ногой в тело противника, и, направив меч против его груди, обводил глазами публику, ожидая ее решения.
Более девяноста тысяч зрителей, мужчин, женщин и детей, опустили большой палец правой руки книзу, что означало смерть, и не более пятнадцати тысяч подняли его кверху в знак желания, чтобы побежденному гладиатору была оставлена жизнь.
Достойно внимания, что в числе требовавших смерти нашлись и целомудренные, благочестивые весталки, без сомнения желавшие доставить себе невинное удовольствие полюбоваться агонией злополучного борца.
Мирмильон нагнулся, чтобы поразить побежденного, но он предупредил его и, выхватив меч из его руки, вонзил eго себе в сердце по самую рукоятку. Мирмильон вынул оружие, обагренное дымящеюся кровью, а рециарий, судорожно приподнялся и крикнул страшным, нечеловеческим голосом:
— Будьте прокляты! — и упал на спину мертвый.
II
Спартак на арене
Толпа неистово рукоплескала, и цирк гудел от криков сотни тысяч голосов.
Мирмильон вернулся в карцеры, а на арену вышли Плутон и Меркурий со служителями цирка, вооруженные железными крючьями, чтобы увлечь тело павшего гладиатора в погребальную дверь, удостоверившись предварительно с помощью железных прутьев, что несчастный действительно умер.
Нa лужу крови было высыпано несколько мешков мелкого блестящего мраморного песка, и арена снова засияла серебром в лучах солнца.
Рукоплещущая толпа не умолкая кричала:
— Да здравствует Сулла!
Предмет оваций обернулся к сидевшему рядом Корнелию Долабелла, бывшему два года тому назад консулом.
— Клянусь Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, плебеи — самые презренные существа в мире. Разве они мне рукоплещут?.. Нет, они рукоплещут моим поварам: те приготовили для них вчера обильный и изысканный стол.
— Отчего ты не сел на оппидуме? — спросил Корнелий Долабелла.
— Не думаешь ли ты, что этим увеличилась бы моя слава? — ответил Сулла и, помолчав, прибавил: — А этот ланист Акциан продал мне недурной товар!
— Как ты щедр, как ты велик, Сулла! — сказал сенатор Тит Аквиций, сидевший возле Суллы.
— Да поразит Юпитер своими молниями презренных льстецов! — с раздражением вскричал бывший диктатор, почесывая правой рукой левое плечо, чтобы унять зуд, вызываемый укусами докучавших ему отвратительных паразитов. — Я отказался от диктатуры, — продолжал он, — а вы по-прежнему желаете видеть во мне господина. Презренные! Ничтожества! Лишь в рабстве и можете жить.
— Не все, о Сулла, таковы, — смело заметил патриций из свиты Суллы, сидевший неподалеку от него.
Этот смельчак был Луций Сервий Катилина.
В то время, с которого начинается наш рассказ, ему было около двадцати семи. Это был рослый широкоплечий мужчина с могучею грудью мускулистыми, богатырскими руками и ногами. Большая голова с широким лбом и смуглым мужественным лицом была покрыта копной густых черных вьющихся волос. Толстая, налитая кровью вена пересекала лоб от черепа до переносицы; темно-серые глаза смотрели свирепо и грозно; резкие мышцы лица беспрестанно перекатывались, выдавая видные внимательному наблюдателю малейшие движения души этого человека.
В описываемую эпоху Луций Катилина уже пользовался репутацией человека страшного и внушал ужас своим вспыльчивым, сангвиническим характером. Он уже убил патриция Гратидиана, да тот мирно прогуливался по берегу Тибра, — убил только за то, что тот отказался ссудить ему под залог его имений большую сумму денег. Катилина нуждался в ней для покрытия своих бесчиленных долгов, так как без этого он не мог получить ни одной из должностей, на которые он имел виды. Это было время проскрипций, когда неумолимая жестокость Суллы затопила Рим кровью. Гратидиан не был в числе опальных и даже в партии Суллы, но он обладал огромным богатством, а имущество занесенных в проскрипционные списки конфисковалось. Поэтому, когда Катилина его труп бросил к ногам Суллы, говоря, что убил Гратидиана как врага диктатора и отечества, Сулла взглянул на это сквозь пальцы, предпочитая заметить только несметные богатства жертвы.
Вскоре после того Катилина поссорился со своим братом, и оба схватились за мечи. Но Луций, кроме своей замечательной силы, пользовался еще репутацией самого искусного борца в Риме. Брат Луция был найден мертвым, и Луций получил в наследство все его богатство, избежав благодаря этому преступлению конечного разорения, до которого он был доведен своим мотовством и развратом. Сулла посмотрел сквозь пальцы и на это убийство, а квесторы, судившие убийцу, будто и совсем ослепли.
При смелых словах Катилины Луций Корнелий Сулла спокойно повернулся к нему и спросил:
— А сколько ты думаешь, Катилина, есть в Риме граждан смелых, как ты, и обладающих подобно тебе величием души, как в добродетели, так и в пороках?
— Я не могу, славный Сулла, — ответил Катилина, — рассматривать людей и вещи с высоты твоего могущества. Признаюсь, что чувствую себя рожденным для любви к свободе и для ненависти к тирании, хотя бы прикрытой великодушием или лицемерно действующей во имя блага отечества. Должен сказать, что это благо даже при внутренних волнениях и гражданских раздорах было бы более прочным под властью всех, чем при деспотизме одного. Не входя в разбор твоих действий, я открыто порицаю, как и раньше порицал, твою диктатуру. Я верю и хотел бы верить, что в Риме есть еще много граждан, готовых на любые муки, лишь бы снова не попасть под диктатуру одного человека, а тем более, если этот человек не будет называться Луцием Корнелием Суллой и если чело его не будет увенчано, как у тебя, победными лаврами, приобретенными в сотнях сражений.
— Так почему же, — спросил Сулла спокойно, но с насмешливой улыбкой, — так почему же вы не вызываете меня на суд свободного народа? Я отказался от диктатуры; так почему же мне не было предъявлено обвинение и почему вы не явились требовать от меня отчета в моих действиях?
— Чтобы не видеть вновь резни и междоусобия, которые в течение десяти лет терзали Рим… Но не будем говорить об этом: у меня нет намерения обвинять тебя; ты мог сильно ошибаться, но ты ведь совершил столько славных подвигов, память о которых днем и ночью волнует мою душу, жаждущую, подобно твоей, Сулла, славы и могущества. Но скажи, не кажется ли тебе, что в жилах нашего народа еще течет кровь великих и свободолюбивых предков? Вспомни, как несколько месяцев тому назад, когда ты в курии, в присутствии Сената, добровольно отказался от диктаторской власти, отпустил ликторов и уходил со своими друзьями домой, один юный гражданин начал тебя порицать за то, что ты отнял у Рима свободу, наполнил город резней и грабежами и сделался его тираном. О Сулла, согласись, что нужно быть человеком очень твердого закала, чтобы так поступить, — ведь за свои слова юноша мог бы в один миг поплатиться жизнью. Ты был великодушен, — и знай, что я говорю не из лести, так как Катилина не льстит никому, даже всемогущему, великому Юпитеру — ты был великодушен и ничего ему не сделал, но ты должен согласиться со мною, что если встречается юноша неизвестного плебейского звания, — жаль, что я не знаю его имени, — способный на такой поступок, то можно еще надеяться на спасение отечества и республики.
— Да, это был смелый поступок, и ради смелости, проявленной этим юношей, я, всегда восхищавшийся мужеством и любивший храбрецов, не пожелал отомстить за нанесенные мне оскорбления и перенес все его ругательства и брань. Но знаешь ли ты, Катилина, какое следствие имели поступок и слова этого юноши?
— Какое? — спросил Сергий, устремив любопытный и испытующий взгляд на счастливого диктатора.
— Отныне, — ответил Сулла, — тот, кому удастся захватить власть в республике, не захочет более от нее отказаться.
Катилина в раздумье опустил голову. Через мгновение он поднял ее и с живостью сказал:
— А найдется ли еще кто-нибудь, кто сумеет или захочет захватить высшую власть?
— Ладно, — сказал, иронически улыбаясь, Сулла, — ладно… Вот толпы рабов, — он указал на ряды амфитеатра, переполненные народом. — Найдутся и господа!
Эта беседа происходила среди гула нескончаемых рукоплесканий толпы, всецело занятой кровопролитным сражением, происходившим на арене между лаквеаторами и секуторами и быстро закончившимся смертью семи лаквеаторов и пяти секуторов. Шесть оставшихся в живых гладиаторов, покрытые ранами, в самом плачевном виде вернулись в темницы, а народ с жаром аплодировал.
В то время как лорарии вытаскивали с арены двенадцать трупов и уничтожали на ней следы крови, Валерия, посматривавшая на Суллу, который сидел невдалеке от нее, встала, подошла сзади к диктатору и вырвала нитку из его шерстяной хламиды. Удивленный Сулла обернулся, рассматривая ее своими сверкающими звериными глазами. Она коснулась его и сказала с очаровательной «улыбкой:
— Не истолкуй моего поступка в дурную сторону, диктатор, я взяла эту нитку, чтобы иметь долю в твоем счастье!
Почтительно поклонившись и приложив, по обычаю, руку к губам, она пошла на свое место. Сулла, приятно польщенный этими любезными словами, проводил ее учтивым поклоном и долгим взглядом, которому постарался придать ласковое выражение.
— Кто это? — спросил Сулла у Долабеллы.
— Валерия, — ответил тот, — дочь Мессалы.
— А!.. — сказал Сулла. — Сестра Квинта Гортензия?
— Она самая.
И Сулла снова повернулся к Валерии, которая смотрела на него влюбленными глазами.
Гортензий, брат Валерии, ушел со своего места, чтобы пересесть к Марку Крассу, богатейшему патрицию, известному своей скупостью и честолюбием: качествами, столь противоположными друг другу, однако сочетавшимися в этом человеке в своеобразную гармонию.
Марк Красе сидел возле одной девушки редкой красоты. Эвтибиде — такое имя носила она, родилась гречанкой, — и имела высокий гибкий стройный стан и такую изящную, тонкую талию, что, казалось, ее легко можно было обхватить пальцами рук Лицо девушки было очаровательно: белая, как алебастр, кожа, едва тронутая легким румянцем на щеках, правильный лоб, обрамленный тончайшими вьющимися рыжими волосами, огромные глаза миндалевидной формы, цвета морской воды, блестевшие и сверкавшие так, что сразу вызывали чувство страстного и непреодолимого влечения. Маленький, красиво очерченный, слегка вздернутый нос усиливал выражение дерзкой смелости, которым дышало это лицо.
Когда Гортензий подошел к Марку Крассу, тот был всецело поглощен созерцанием этого очаровательного создания. Эвтибиде в эту минуту, очевидно, от скуки, зевала во весь свой маленький ротик и правой рукой играла висевшей на груди сапфировой звездой.
Крассу было тридцать два года; он был выше среднего роста, крепкого, но склонного к полноте телосложения. На его бычьей шее сидела довольно большая, но пропорциональная телу голова, однако лицо его бронзово-желтого цвета поражало худобой. Черты лица были мужественные и строго римские: нос — орлиный, подбородок — резко выдающийся. Желтовато-серые глаза временами необыкновенно ярко сверкали, временами же были неподвижны, бесцветны и казались угасшими.
Благородство происхождения, замечательный ораторский талант, громадные богатства, приветливость и тактичность завоевали ему не только популярность, но славу и влияние, ко времени нашего рассказа он уже много раз доблестно воевал на стороне Суллы в гражданских междоусобиях, и занимал разные государственные посты.
— Здравствуй, Марк Красе, — сказал Гортензий, выводя его из оцепенения.
— Итак, ты углубился в созерцание звезд? — Клянусь Геркулесом, ты угадал, ответил Красе, — эта… — Эта… Которая?
— Эта красавица-гречанка…, сидящая там…, двумя рядами выше нас…
— А! Я ее видел… Это Эвтибиде.
— Эвтибиде? Что ты этим хочешь сказать?
— Я называю тебе ее имя… Действительно, она — гречанка.., куртизанка… сказал Гортензий, усаживаясь рядом с Крассом.
— Куртизанка!.. У нее скорее вид богини!.. Настоящая Венера!.. Я не могу — клянусь Геркулесом! — представить себе более совершенное воплощение красоты. А где она живет?
— На Священной улице.., недалеко от храма Януса Верхнего.
В то время как они беседовали о гречанке, а Сулла, за несколько месяцев перед тем потерявший свою четвертую жену Цецилию Метеллу, рисовал себе идиллическую картину любви с прекрасной Валерией, звук трубы подал сигнал к сражению, начинавшемуся между тридцатью фракийцами и тридцатью самнитами.
Разговоры и шум прекратились. Все взоры устремились на сражающихся.
Первое столкновение было ужасно: металлические удары щитов и мечей резко прозвучали среди глубокой тишины, воцарившейся в цирке; вскоре по арене полетели перья, осколки шлемов и куски разбитых щитов; гладиаторы, возбужденные и тяжело дышавшие, яростно теснили и поражали друг друга.
Не прошло и пяти минут, как кровь уже текла по арене; три умирающих гладиатора были обречены на мучительную агонию под ногами бойцов, топтавших их тела. Нервное напряжение, с которым зрители следили за кровавыми перипетиями этого сражения, трудно не только описать, но и вообразить, — ведь по меньшей мере восемьдесят тысяч из числа всех зрителей держали пари за пурпурно-красных фракийцев или за голубых самнитов кто на десять сестерциев, кто на двадцать и пятьдесят талантов, смотря по состоянию.
По мере того, как ряды гладиаторов редели, все чаще раздавались аплодисменты, крики и поощрительные возгласы зрителей.
Через час битва стала приходить к концу. Пятьдесят гладиаторов обагряли кровью арену и испускали дикие крики, в предсмертных судорогах.
Те из зрителей, которые держали пари за самнитов, были уже, казалось, уверены в выигрыше. Семеро самнитов окружили и теснили трех оставшихся в живых фракийцев, которые, прислонившись спинами друг к другу, образовали треугольник и оказывали отчаянное упорное сопротивление превосходящим численностью победителям.
В числе этих трех еще живых фракийцев был Спартак. Его атлетическая фигура, удивительная сила мускулов, поразительная гармония тела, неукротимая и несокрушимая храбрость привлекали внимание всех зрителей. Эти качества, несомненно, должны были выдвинуть его из ряда обыкновенных людей именно в эту эпоху, когда главными достоинствами человека считались сила рук и энергия. К тому же он отличался образованностью, необычной возвышенностью мыслей, благородством и величием души.
Спартаку в то время было около тридцати. Длинные белокурые волосы и густая борода обрамляли его прекрасное, мужественное, правильное лицо. Большие голубые глаза, полные жизни, чувства и блеска придавали его лицу, когда он был спокоен, выражение мягкой доброты. Но не таково оно было теперь, когда он, полный гнева, с сверкающими глазами и с страшным видом, сражался в цирке.
Спартак родился в Родосских горах во Фракии. Он сражался против римлян, когда они напали на его родину. Попав в плен, благодаря своей силе и храбрости он был зачислен в легион, где проявил необыкновенную доблесть и затем так отличился в войне против Митридата, что был назначен деканом, то есть начальником отряда в десять человек, и получил почетную награду — гражданский венок. Но когда римляне снова начали войну против фракийцев, Спартак дезертировал и стал сражаться за свое отечество против римлян. Раненый и снова взятый в плен римлянами, он, вместо полагавшейся ему смертной казни, был осужден служить гладиатором и поэтому продан тому ланисту, у которого его потом купил Акциан.
Прошло два года с тех пор, как Спартак стал гладиатором; с первым ланистом он объездил почти все города Италии, принимал участие более чем в ста сражениях, и ни разу не был тяжело ранен. Как ни сильны и мужественны были другие гладиаторы, Спартак настолько превосходил их, что выходил из любой схватки победителем, создав себе громкую славу своими подвигами в амфитеатрах и цирках Италии.
Акциан купил его за очень высокую цену — двенадцать тысяч сестерциев — и хотя владел им уже шесть месяцев, еще ни разу не выпускал его в амфитеатрах Рима, потому ли, что очень ценил его как учителя фехтования, борьбы и гимнастики в своей школе, или потому, что Спартак ему стоил слишком дорого, чтобы рисковать его жизнью в сражениях, плата в случае его смерти не возместила бы ему убытков.
В этот день Акциан впервые выпустил Спартака в кровопролитном сражении в цирке: щедрость Суллы, который заплатил за сто гладиаторов, назначенных сразиться в этот день, круглую сумму в двести двадцать тысяч сестерциев, покрывала расходы за Спартака, даже если бы он был убит.
Но все же Акциан, прислонившись к одной из дверей темниц, стоял с бледным и тревожным лицом, весь поглощенный последними моментами битвы; и если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ним, тот, наверно, заметил бы, как он тревожился за Спартака; за каждым ударом, нанесенным или отбитым им, он следил с живейшим участием, так как оставшиеся в живых после сражений гладиаторы возвращались в, собственность ланиста, за исключением тех, которым народ дарил жизнь.
— Смелее, смелее, самниты! — кричали тысячи зрителей, которые держали пари за самнитов.
— Бейте их, рубите этих трех варваров! — поощряли другие.
— Задай им, Небу лиан, бей их, Крикс, вали их, вали, Порфирий! — кричали зрители, державшие в руках таблички с написанными на них именами гладиаторов.
Но против этих голосов раздавались не менее громкие возгласы сторонников фракийцев, у которых осталось уже очень мало шансов и которые тем не менее надеялись на победу Спартака: Спартак еще не раненный, с неповрежденным шлемом и щитом, как раз в этот момент проколол одного из семи окружавших его самнитов. Громы рукоплесканий раздались в цирке, и за ними последовали тысячи громких возгласов:
— Смелее, Спартак! Браво, — Спартак! Да здравствует Спартак!
Два других фракийца были тяжело ранены; они медленно наносили удары и вяло их отражали, так как силы их уже были исчерпаны.
— Защищайте мне спину! — крикнул Спартак, с быстротой молнии размахивая своим маленьким мечом, которым он одновременно отражал удары мечей самнитов, дружно атаковавших его. — Защищайте мне спину… еще немного… и мы победим.
Голос его прерывался, грудь порывисто вздымалась, по бледному лицу катились крупные капли пота, а в сверкающих глазах горели жажда победы, гнев и отчаяние.
Вскоре другой самнит, получив удар в живот, упал недалеко от Спартака, покрывая арену кровью, в предсмертной агонии испуская дикий крик, страшную ругань и проклятия. В ту же минуту один из двух фракийцев, стоявших за спиной Спартака, рухнул с разбитым черепом.
Рукоплескания, крики и возгласы поощрения наполнили цирк шумом я гулом; глаза зрителей были прикованы к сражающимся. Луций Сергий Катилина, державший пари за фракийца, не дышал, не видел ничего, кроме этой кровавой битвы, и не сводил глаз с меча Спартака, будто к этому мечу была прикреплена нить его существования.
Третий самнит, пораженный Спартаком в сонную артерию, присоединился к своим товарищам, лежавшим на арене, как раз в тот момент, когда фракиец, единственная поддержка Спартака, пронзенный несколькими ударами, упал мертвым.
Гул, похожий на рев, пробежал по всему цирку; затем настала глубокая тишина, такая, что можно было ясно слышать тяжелое прерывистое дыхание гладиаторов. Нервное напряжение зрителей было так велико, что едва ли оно могло быть сильнее, если бы от этой битвы зависела судьба Рима.
Спартак, благодаря непостижимой ловкости и искусству фехтования, в этом продолжительном, длившемся более часа сражении получил только три легких раны, скорее даже царапины; теперь он оказался один против четырех сильных противников, хотя и получивших ранения и истекавших кровью, но все же страшных именно своим числом.
Как ни храбр и силен был Спартак, однако при виде падения последнего своего товарища он счел себя погибшим.
Но внезапно его глаза засверкали: ему пришла в голову мысль — применить старинную тактику Горация против Куриациев.
И он бросился бежать. Самниты стали его преследовать.
Спартак, не пробежав и пятидесяти шагов, внезапно повернулся, напал на ближайшего к нему самнита и вонзил ему в грудь кривой меч. Самнит закачался, взмахнул руками, как бы ища опоры, и упал; Спартак же, настигнув второго врага и отразив щитом удар меча, уложил его на месте. Раздались восторженные крики зрителей, которые теперь почти все были на стороне фракийца.
В это время приблизился третий самнит, сплошь покрытый ранами. Спартак ударил его щитом по голове, не считая нужным прибегнуть к мечу и не желая, очевидно, убить его. Оглушенный ударом, самнит дважды повернулся на месте и упал. Последний из его товарищей, выбившийся из сил, поспешил к нему на помощь. Спартак энергично напал на него, но, не желая убивать противника, несколькими ударами обезоружил его. Затем прижал самнита к себе и повалил на землю, прошептав на ухо:
— Мужайся, Крикс, я надеюсь тебя спасти.
С этими словами он стал одной ногой на грудь Крикса, а коленом другой — на грудь самнита, оглушенного ударом щита, и в этой позе ожидал решения народа.
Продолжительные, единодушные рукоплескания, оглушительные, как гул подземного грома, раздались в цирке; почти все зрители подняли вверх указательный и средний пальцы, и жизнь обоих самнитов была спасена.
— Какой сильный человек! — сказал Сулле Катилина, по лбу которого текли крупные капли пота. — Какой сильный человек! Он должен был родиться римлянином!
Между тем сотня голосов кричала:
— Свободу храброму Спартаку!
Глаза гладиатора засверкали необыкновенным блеском; его лицо стало еще бледнее, чем было, и он прижал руку к сердцу, как бы для того, чтобы сдержать его бешеное биение.
— Свободу, свободу! — повторяли тысячи голосов.
— Свобода! — прошептал приглушенным голосом гладиатор, — свобода!.. О боги Олимпа, не допустите, чтобы это было сном! — И он почувствовал, что ресницы его увлажнились слезами.
— Он дезертировал из наших легионов! — раздался громкий голос. — Нельзя давать свободу дезертиру!
И тогда многие граждане, потерявшие благодаря мужеству Спартака свои ставки, закричали злобно:
— Нет, нет, он — дезертир.
Лицо фракийца страшно передернулось, и он резко повернул голову в ту сторону, откуда раздался первый крик обвинения против него. Глазами, сверкавшими ненавистью, он искал того, кто крикнул.
Но тем временем тысячи голосов кричали:
— Свободу, свободу, свободу Спартаку!
Невозможно описать чувство, которое испытывал бедный гладиатор. Для него решался вопрос, более серьезный, чем сама жизнь, и страшная тревога отражалась в этот момент на его бледном лице. Движение мускулов и блеск глаз ясно обнаруживали борьбу между страхом и надеждой. И этот человек, сражавшийся полтора часа со смертью, не обнаруживший ни малейшего признака страха тогда, когда он один остался против четырех противников, — этот человек почувствовал, что колени под ним подгибаются, и чтобы не упасть без чувств среди цирка, он оперся о плечи одного из лорариев, пришедших очистить арену от трупов.
— Свободу, свободу!.. — продолжала кричать толпа.
— Он ее действительно достоин, — сказал Катилина на ухо Сулле.
— И он будет ее достоин! — воскликнула Валерия, которою Сулла в эту минуту восхищенно любовался.
— Хорошо, — сказал Сулла, вопросительно смотря в глаза Валерии, которые, казалось, с нежностью, любовью и состраданием молили о милости гладиатору, — хорошо… пусть будет так!..
И Сулла наклонил голову в знак согласия. Спартак стал свободным под шумные рукоплескания зрителей.
— Ты свободен, — сказал лорарий Спартаку. — Сулла даровал тебе свободу.
Спартак не отвечал и не двигался. Глаза его были закрыты, и он не хотел их открывать, боясь, как бы не исчезла мечта, которую он так долго лелеял и в осуществление которой он не решался поверить.
— Своей храбростью ты разорил меня, злодей! — пробормотал чей-то голос над ухом гладиатора.
При этих словах Спартак очнулся. Перед ним стоял ланист Акциан. Действительно, последний пришел с лорариями на арену поздравить Спартака, пока еще рассчитывал, что он останется его собственностью, а теперь проклинал его храбрость. Глупая, по его мнению, жалость народа и великодушничанье за чужой счет Суллы обошлись ему, Ациану, по его вычислению, в двенадцать тысяч сестерциев.
Замечание ланиста убедило фракийца, что он не бредит. Он выпрямился во весь свой огромный рост, величественно поклонился Сулле и народу и ушел с арены среди нового взрыва рукоплесканий.
— Не богами, не богами все создано, — говорил в этот момент Тит Лукреций Кар, продолжая рассуждать со своими молодыми друзьями, Кассием и Гаем Меммом Гемеллом, которые пришли в цирк во время игрищ и сели возле него. Последний был страстным любителем литературы, искусств и философии, и Лукреций посвятил ему впоследствии свою поэму «О природе вещей», уже задуманную им в пору нашего рассказа.
— Так кто же создал мир? — спросил Кассий.
— Мир создан вечным движением материи, которым руководит невидимая нам сила. Ты видишь на земле и в небе много созданий и, не понимая, откуда они происходят, думаешь, что все создается нашими богами? Ничто никогда не создается из ничего.
— А Юпитер, Юнона, Сатурн? — с удивлением спросил Кассий, очень любивший спорить с Лукрецием.
— Это создания людского невежества и страха. Я посвящу тебя, милый мальчик, в единственное истинное учение великого Эпикура, который не страшился ни громов небесных, ни землетрясений, распространяющих ужас на земле, ни могущества богов, ни молний, которые они будто бы держат в своих руках. Побеждая все препятствия, создаваемые закоренелыми людскими предрассудками, он смело проник в заповедные тайны природы и узнал происхождение и причину вещей.
Но тут учитель Кассия стал звать его домой, напомнив, что отец приказал ему вернуться из цирка до сумерек. Юноша встал, не возражая, и одновременно поднялись со своих мест и Лукреций с Меммом. Они все вместе направились к ближайшему выходу.
Им пришлось пройти мимо того места, где сидел сын Суллы, Фауст, перед которым стоял, разговаривая с ним и лаская его, Помпей, покинувший оппидум, чтобы побеседовать со знакомыми матросами и друзьями, находившимися в цирке.
Проходя мимо него, Кассий остановился и сказал, обращаясь к Фаусту:
— Посмотрим, Фауст, повторишь ли ты в присутствии великого Помпея те безумные слова, которые ты сказал третьего дня в школе. Ты утверждал, что отец твой хорошо поступил, лишив римлян свободы и сделавшись владыкой своего отечества. Я избил тебя за эти слова, так что знаки и теперь еще остаются на твоем лице, и готов еще раз проучить тебя таким же образом в присутствии Помпея.
Но Кассий тщетно ждал от Фауста ответа. Тот опустил голову и молчал перед двенадцатилетним отроком, которому горячая любовь к отечеству придала смелость избить и пристыдить сына владыки Рима.
Не получив ответа, Кассий почтительно поклонился Помпею и ушел из цирка вместе с Меммом, Лукрецием и своим учителем.
Тем временем с одной из ступеней над погребальной дверью поднялся молодой человек, лет двадцати шести, одетый в тогу длиннее обыкновенного, прикрывавшую его тонкие ноги. Худощавый и слабо сложенный, он был, однако, высок ростом и имел величавую осанку. Он сидел возле дамы, окруженной молодыми патрициями.
— Прощай, Галерия, — сказал он, целуя руку этой молодой и красивой дамы.
— Прощай, Марк Туллий, — ответила она. — Помни, что я буду ждать тебя послезавтра в театре Аполлона на представлении «Электры» Софокла.
— Буду помнить, не беспокойся.
— Прощай, Цицерон, — сказал красивый мужчина лет пятидесяти пяти, нарядный и надушенный, и пластичным жестом протянул руку молодому человеку.
— Храни тебя Талия, достопочтенный Эзоп, — ответил Туллий, отвечая рукопожатием великому актеру.
Группа, от которой отошел Цицерон, состояла из красивой и знаменитой трагической актрисы Галерии Эмболарии, которой было в ту пору не более двадцати трех, из великого трагика Эзопа, служившего образцом бессмертному артисту Квинту Росцию, заставлявшему плакать, смеяться и трепетать весь римский народ. Квинт, которому было около сорока лет, находился в полном расцвете своего таланта и славы. Римляне обожали его, и самые знаменитые из граждан искали его дружбы и гордились ею, тем более, что Росций был не только гениальный артист, но и человек безупречных нравов и высокого ума.
Вокруг этих трех прекрасных артистов собирались меньшие звезды той артистической плеяды, которая привлекала в ту пору в театры толпы римской публики, сбегавшейся смотреть на трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида и на комедии Аристофана, Плавта и других.
К той же группе влекло и светских франтов, и шалопаев, желавших выставиться перед толпой и изведать новые ощущения.
О том, как поклонялись в ту пору римляне актерам, можно судить по их богатству. Росций, например, получал по тысяче динариев за представление, и ежегодный доход его достигал ста сорока шести тысяч динариев.
Цицерон, пройдя несколько скамеек, подошел к сидевшим рядом Катону и Цепиону и, подсев к ним, вступил в разговор с юным Катоном, которого очень любил.
— Скажи, ради великих богов, правда ли то, что о тебе говорят? — спросил он мальчика.
— Правда, — ответил тот мрачно.
— Ты был прав, мой смелый мальчик, — сказал вполголоса Цицерон, целуя Катона в лоб. — К сожалению, не всегда можно поднимать голос за правду: часто, почти всегда, сила оказывается сильнее справедливости.
Они помолчали.
— Но как это произошло? — спросил потом Цицерон, обращаясь к ментору отрока Сарпедону.
— В виду ежедневных убийств, которые совершаются по приказанию Суллы, — ответил тот, — я взял за правило водить в месяц раз этих двух мальчиков в гости к Сулле для того, чтобы тот кровожадный человек считал их своими друзьями, и чтобы ему не могла прийти в голову мысль распространить на них проскрипцию. И он, действительно, всегда принимал их благосклонно и отпускал с ласковыми словами. Но однажды, когда, выйдя от него, мы переходили форум, до нашего слуха донеслись из Мамертинской тюрьмы душераздирающие вопли…
— Я спросил Сарпедона, — перебил Катон, — кто так кричит, он ответил. «Граждане, которых убивают по повелению Суллы». — «За что же их убивают?» — спросил я. «За то, что они стоят за свободу».
— И тогда этот сорванец, — перебил в свою очередь ментор, — закричал громким голосом, который, к несчастью, был услышан близстоящими: «О, зачем ты не даешь мне меча, чтобы я мор убить этого жестокого тирана отечества?!»
— А как ты узнал об этом случае? — спросил Сарпедон, помолчав.
— О нем уже многие говорят. Все восторгаются гражданским мужеством этого мальчика, — ответил Цицерон.
— Значит, того и гляди об этом узнает и сам Сулла, — с отчаянием произнес ментор.
— Пускай узнает! — презрительно сказал Катон, насупив брови. — Я повторю эти слова и в присутствии человека, перед которым вы все трепещете. Я хотя и отрок, но не боюсь его, — клянусь всеми богами Олимпа!
Цицерон и ментор с удивлением переглянулись, а мальчик горячо прибавил:
— Ах, если бы я уже носил тогу…
— А что бы ты сделал тогда, сумасброд? — спросил Цицерон и тотчас прибавил: — Помолчи-ка лучше!
— Я привлек бы к суду Суллу, обвинил бы его перед народом…
— Замолчи, замолчи, говорят тебе! — прервал Цицерон. — Ты всех нас погубишь. Я и без того вряд ли пользуюсь благоволением бывшего диктатора: ведь я имел неосторожность воспеть подвиги Мария и защищал в суде два дела, в которых Сулла был противником моих клиентов. Или ты хочешь такими безрассудными словами дать ему предлог отправить и нас к бесчисленным жертвам своей безумной свирепости? Разве Рим избавится от его роковой власти, если и нас убьют? Страх застудил в жилах римского народа кровь его предков, а Сулла к тому же счастлив и всемогущ.
— Лучше было бы, если бы он вместо прозвища «счастливый» заслужил прозвище «справедливый», — проворчал Катон.
Однако он последовал совету Цицерона и, поворчав, умолк.
Тем временем народ потешался фарсом, представляемым на арене двадцатью полуслепыми андабатами, — фарсом кровавым и жестоким, в котором все двадцать злополучных гладиаторов должны были расстаться с жизнью.
Сулла, которому уже прискучило это зрелище и который был поглощен одной мыслью, засевшей в его мозгу в последние часы, встал и направился к тому месту, где сидела Валерия. Он ласково поклонился ей, не сводя с нее долгого взгляда, и спросил, стараясь сделать голос возможно мягче и нежнее:
— Свободна ли ты, Валерия?
— Мой муж разошелся со мной несколько месяцев назад, хотя без всякой позорной вины с моей стороны, если только…
— Да, я знаю, — перебил Сулла, с которого Валерия не сводила нежного взгляда своих черных глаз.
После минутного молчания диктатор спросил, понизив голос:
— Будешь ты любить меня?
— Всеми силами моей души, — ответила молодая женщина, потупив глаза, с обворожительной улыбкой.
— И я люблю тебя, Валерия, как никогда еще, мне кажется, не любил, — проговорил Сулла дрожащим голосом.
Он с минуту глядел на нее молча, потом взял ее руку, страстно прижал ее к своим губам и прибавил:
— Через месяц ты будешь моей женой.
Сказав это, он удалился из цирка в сопровождении своих друзей.
III
Таверна «Венеры Похоронной»
В одном из самых отдаленных узких и грязных переулков Эсквилина, близ древней стены Сервия Туллия и у самых Кверкветуланских ворот, стояла таверна, открытая днем и ночью, и преимущественно ночью. Она носила название таверны «Венеры Похоронной», покровительницы кладбищ и могил. Такое название объяснялось просто: за Эсквилинскими воротами по одну сторону лежало кладбище для плебеев, а по другую тянулось до самой Сессорийской базилики широкое поле, на которое выбрасывались трупы рабов и преступников, предназначавшиеся на съедение волкам и хищным птицам. На этом поле, заражавшем зловонием все окрестности, спустя полвека богач Меценат развел свои знаменитые огороды, доставлявшие владельцу превосходные овощи и фрукты благодаря обильному удобрению плебейскими костями.
Над входом в таверну находилось изображение Венеры, более похожее на безобразную мегеру, чем на богиню красоты. Болтавшийся по воле ветра фонарь освещал эту бедную Венеру, которая, впрочем, не выиграла бы, и от лучшего освещения. Но и этого скудного света было достаточно для привлечения внимания прохожих к пучку высохших веток, торчавшему над дверью, и для нарушения мрака, царившего в грязном переулке.
Посетитель, войдя в низкую дверь и спустясь по камням, положенным один на другой и заменявшим ступени, проникал в сырую и почерневшую от копоти комнату. Направо от входа помещался камин, в котором пылал огонь и варились в котлах различные кушанья; но лучше было не доискиваться, из чего их составляла хозяйка таверны, Лутация Монокола. Возле камина четыре терракотовые статуэтки изображали ларов, то есть богов, покровительствующих дому, перед которыми лежали венки и букеты высохших цветов. Перед камином, на позолоченной скамье, обтянутой красной материей, восседала хозяйка таверны, когда ей не было дела до посетителей. Вокруг стен тянулись скамьи, перед которыми были расставлены старые столы, а на потолке висела оловянная лампа с четырьмя рожками, еле освещавшими большую комнату.
Напротив входной двери находилась дверь во вторую комнату, немного поменьше и почище первой; стены второй комнаты были расписаны самыми непристойными изображениями. Очевидно, писавший их был не из стыдливых. В углу комнаты горела лучерна с одним рожком, оставлявшая часть комнаты в полной темноте и бросавшая слабый полусвет на две кровати.
Около часа ночи после описанного нами дня, 10 ноября 675 года, таверна «Венеры Похоронной» была переполнена посетителями, оглашавшими шумными разговорами не только стены, но и весь переулок.
Лутация Монокола со своей негритянкой-рабыней, черной как смола, разрывались, чтобы успеть удовлетворить шумных и проголодавшихся клиентов. Лутация, рослая, толстая и краснощекая женщина, могла бы еще называться красивой, несмотря на свои сорок пять лет и седеющие каштановые волосы, если бы лицо ее не было обезображено большим шрамом. Он начинался на лбу, пересекал правый глаз, веко которого было опущено над вытекшим глазным яблоком, и спускался на нос, лишенный одной ноздри. За это увечье Лутация и получила прозвище Моноколы, то есть одноглазой.
История этого шрама относилась к давним временам. Лутация была женой легионера Руфина, храбро сражавшегося в свое время в Африке против Югурты. Когда после победы над этим царем Гай Марий вернулся триумфатором в Рим, Руфин возвратился вместе с ним. Лутация была в ту пору еще красавицей и не очень строго соблюдала супружескую верность. Однажды муж, приревновав ее к соседнему мяснику, выхватил меч и убил его, а затем, чтобы навсегда запечатлеть в памяти жены кодекс супружества, нанес и ей рану в лицо, ее изуродовавшую навеки. Полагая, что убил женщину, и опасаясь ответственности за убийство — не жены, а мясника, — он счел за лучшее бежать и сложил голову под командой своего богоравного полководца, Гая Мария, когда этот славный арпинский крестьянин разбил на голову тевтонские орды при Сестийских водах и спас Рим от грозившей ему страшной опасности.
Лутация, оправившись от долгой болезни, полученной вследствие тяжкой раны, дополнила собранной милостыней кое-какие бывшие у нее сбережения и арендовала таверну, которую, благодаря великодушию Метелла Нумидийского, она получила потом в дар.
При всем своем безобразии бойкая, веселая и услужливая Лутация еще внушила не одну сильную страсть, и между поклонниками ее не раз доходило дело до драки. Следует, впрочем, добавить, что таверна «Венеры Похоронной» посещалась только подонками римской черни: могильщиками, гладиаторами и клоунами низшего сорта, нищими, мнимыми калеками и проститутками. Но Лутация Монокола не отличалась строгостью нравов. Она знала, что богатые люди, патриции и кавалеры, не пойдут в ее таверну, и опыт убедил ее, что сестерции бедняка и мошенника ничем не отличаются от сестерциев честного гражданина и гордого патриция.
— Скоро ли, черт возьми, нам подадут эти проклятые сальники? — крикнул громовым голосом старый гладиатор, лицо и грудь которого были покрыты шрамами.
— Бьюсь об заклад на сто сестерциев, что Лувений принес хозяйке с Эсквилинского поля кусок человеческого мяса, оставшийся от воронов, и она сдабривает им свои клецки, — воскликнул сидевший возле гладиатора нищий, притворявшийся калекой.