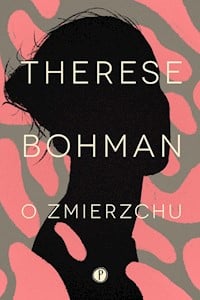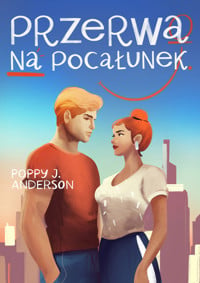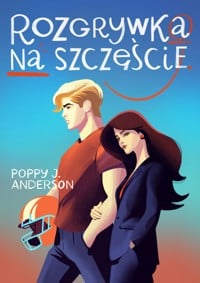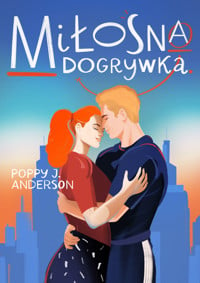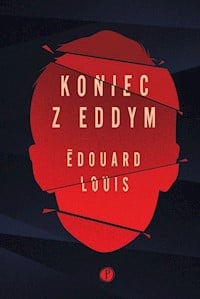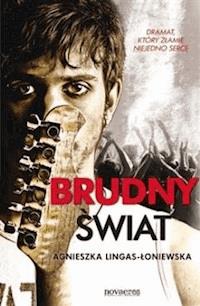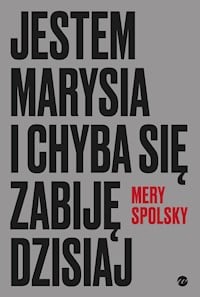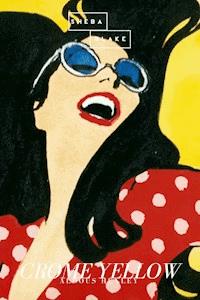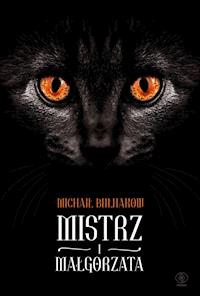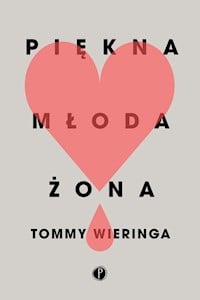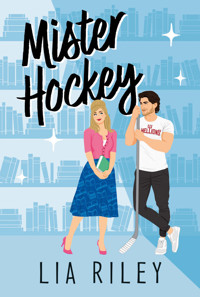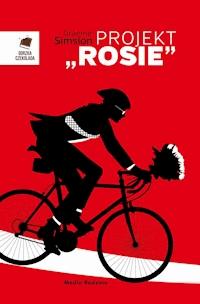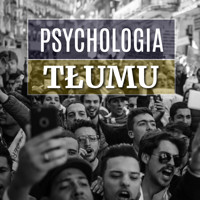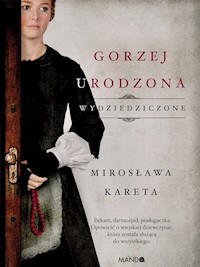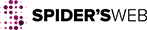Uzyskaj dostęp do tej i ponad 250000 książek od 14,99 zł miesięcznie
- Wydawca: Наірі
- Kategoria: Literatura obyczajowa i piękna
- Język: polski
Психотерапія є засобом не лише для лікування від хворобливих симптомів, а й передусім для відновлення людської гідності. Гідність означає відчувати себе повністю відповідальним за свої життєві завдання з глибокою повагою до інших людей і зовнішнього світу. Наріжним же каменем людської гідності виявляється переживання власної ідентичності, засноване на здатності згадувати. Тексти і численні вправи в цій книжці — це все про те, як скарб спогадів можна використовувати максимально різноманітним і живим чином і які тлумачення минулого мають сенс. Окрім того, розглядається, які бесіди «терапевта» з «клієнтом» у цьому сенсі є найбільш ефективними і чому. Книга призначена для навчальних груп психотерапевтів, а також для всіх зацікавлених.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 601
Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:
Podobne
Аннотация
Психотерапия является средством не только для излечения от болезненных симптомов, но прежде всего для восстановления человеческого достоинства. Достоинство означает чувствовать себя полностью ответственным за свои жизненные задачи с глубочайшим уважением к другим людям и внешнему миру. Краеугольным же камнем человеческого достоинства оказывается переживание собственной идентичности, основанное на способности воспоминания. Представленные в книге тексты и многочисленные упражнения – это все о том, как сокровище воспоминаний можно использовать максимально разнообразным и живым образом и какие толкования прошлого имеют смысл. Кроме того рассматривается, какие беседы «терапевта» с «клиентом» в этом смысле наиболее эффективны и почему.
Книга предназначена для учебных групп психотерапевтов, а также для всех заинтересованных.
ISBN 978-617-7314-66-9
© Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart, 2012
© Издательство «НАИРИ», Киев , 2020
Ад Деккерс
Психотерапия человеческого достоинства
Введение
Непрерывное развитие психотерапии
Просто удивительно, как это при таком оптимизме перед лицом множества существующих форм психотерапии и при такой вере в их действенность и правильность мы до сих пор не достигли состояния полного счастья и непоколебимого здоровья. Добавим, что нужно ведь еще принять во внимание богатый выбор книг и курсов по личностному росту. Число публикаций типа «Как мне стать свободной от проблем и успеш ной личностью» постоянно растет, в то время как, если честно, следует признать, что, собственно говоря, для хорошей консультации хватило бы 25 названий. То же касается широчайшего выбора различных курсов и мастер-классов, которые якобы способны предложить решение жизненных проблем. Эффективность их равна нулю, но деньги-то заплачены.
По-моему, если, несмотря на все усилия, мы до сих пор не достигли стадии полного счастья и здоровья (да и не можем такой стадии достичь), на то есть много веских причин.
1. Первая причина состоит просто в том, что любое изменение личности требует времени. Невозможно добиться изменения стереотипов мышления, привычек или свойств характера за одни выходные или даже в течение нескольких недель. Решение о разводе созревает несколько лет. В состоянии эмоционального выгорания на восстановление сил нужен год. Депрессии могут длиться десятилетиями. По меньшей мере несколько месяцев потребуется на преодоление скованности. Спортсмены затрачивают многие годы, чтобы добиться высоких результатов. Поэтому не стоит ли нам просто смириться с тем, что на изменение психических процессов тоже требуется свое, определенное, время, что такое изменение иногда происходит быстро, но, как правило, – медленно, и во многих случаях сопровождается остаточными явлениями и оставляет шрамы ?
За один уикенд можно разве что нащупать направление желаемых перемен и на короткое время, к примеру, преодолеть некую свою застенчивость; однако на то, чтобы придать этим переменам долговременный характер, требуется гораздо больше времени, а также сосредоточенного внимания и практических усилий.
2. Вторая причина видится мне в неоправданной тенденции к упрощению психотерапии. Проблема должна быть простой, и таким же простым, понятным и убедительным должно быть ее решение. Однако почему проблеме нельзя быть трудной, а ее решению – сложным? Разве не возрастут мотивация терапевта и его интерес к проблеме, если с каждым вопросом он будет открывать все новые ее измерения и аспекты?
Возьмем что-нибудь совершенно банальное: например покупку пакета кофе. Куплю ли я тот кофе, который сам больше всего люблю, или тот, что больше нравится моему партнеру? И, собственно, какой у меня любимый сорт кофе? Не попробовать ли какой-нибудь новый аромат? По каким критериям мы решали это до сих пор? Может быть, я все время покупал один и тот же сорт, чтобы собрать нужные баллы и купить термос? Заботят ли нас обнищание и болезни производителей кофе из-за нехватки средств или нет? И что заставляет нас либо, наоборот, препятствует нам купить десять пакетов кофе зараз?
Или давайте возьмем более специальную тему, допустим – депрессию . Какое значение в возникновении депрессии у пятидесятипятилетнего школьного консультанта имеет его возраст? Какую роль играет то, что в трех школах, где он одновременно преподает, все время возрастают требования к производительности? Что он делает с нарастающим ощущением бессилия, которое охватывает, когда менеджмент постоянно меняется, а проблем с подростками становится все больше? Что было бы, если бы его сын не страдал наркозависимостью? Можно ли сказать, что он во всеоружии встречает социальные перемены, и хочет ли он вооружаться против них?
Или: как влияют на возникновение депрессии у студента в возрасте 21 года несчастная любовь , одиночество , нехватка поддержки близких, с одной стороны, и плохая организация учебного процесса в учебном заведении – с другой?
Настоящие прагматики скажут (с плохо скрываемым презрением к болтунам), что надо всего лишь потратить на покупку кофе достаточно времени, а в состоянии депрессии – получить хорошую консультацию, и предложат клиенту терапию, соответствующую его симптомам и адекватную здоровым базисным структурам его личности. Дифферен-циалисты – с ясно различимым восторгом оттого, что вот сейчас-то настоящая жизнь и начнется! – укажут, что на этом великолепном примере с покупкой кофе можно разобрать все касающиеся человека темы: развитие и изменение вкусов; способность наслаждаться жизнью; способ построения партнерских отношений; зависимости и перегруженность семейными привычками; индивидуальная ответственность в глобальном мире. С их точки зрения, преимущество дифференцирования и введения новых измерений состоит в том, что таким образом можно охватить и осветить сознанием жизнь как целое. Точно такое же суждение вынесут они и относительно того, как заботливо были собраны возможные причины упомянутой депрессии: влияние возраста, проблема человечности или бесчеловечности современных способов управления, перекладывание проблем с родительских плеч на детские, роль наркозависимости в динамической системе семьи, взаимодействие между личностью учителя и школьной педагогической системой, роль одиночества.
Чем больше аспектов мы нашли для рассмотрения ситуации, тем больше смещается внимание. Речь идет уже не о сиюминутном результате , а о том , чтобы научиться в принципе обращаться со сложными, комплексными ситуациями. Прийти к цели и ничего не пережить по дороге означало бы обеднение здесь-бытия. По моему мнению, одна из задач психотерапии состоит в том, чтобы искать возможности связать обогащение и углубление жизни с эффективным решением проблем и смягчением симптомов. Я по своей позиции ближе к дифференциалистам , чем к прагматикам .
3. Третья причина затрагивает сложный вопрос: можно ли полностью описать психическое здоровье как субъективное состояние благополучия или важным фактором является еще и хорошее самочувствие окружающих. Ведь далеко не всегда близким хорошо, когда хорошо нам; бывает даже, что другие от нашего благополучия страдают. Вероятно, должен иметь место баланс между заботой о собственном здоровье и ответственностью за окружающих. При определенных условиях может понадобиться поставить ответственность за близких выше собственного здоровья, как это бывает в случае необходимости длительной заботы о тяжелобольном или изнурительной работы на высокой общественной должности. По моему мнению, личностный рост заключается не в последнюю очередь в том , чтобы учиться нести ответственность за широкую сферу, выходящую за пределы собственного благополучия. До тех пор, пока клиент не будет в состоянии мужественно взять на себя ответственность за ближайшее и более широкое окружение (партнера, детей, атмосферу на рабочем месте, окружающую среду и тому подобное), результаты терапии могут в лучшем случае считаться временными, промежуточными. Можно сказать, что находящаяся в состоянии постоянного движения органическая совокупность человека и обстоятельств, частью которой является физически присутствующий в кабинете клиент, – это со-клиент психотерапевта. Это можно считать основным принципом плодотворной работы в рамках системной психотерапии. Пространство психотерапии – это, с одной стороны, область между приспособлением к окружению и отказом приспосабливаться к нему , а с другой – область между принятием и отказом принимать окружающее. Тот, кто рассматривает психотерапию как социальный инструмент для настройки приспособляемости, резко сужает ее задачу; психотерапия – еще и путь к изменению общества. Психотерапия принципиально политична.
Если полугосударственный работодатель принуждает трид цатилетнего инженера составить приукрашенные и потому лживые данные об охране окружающей среды и тот в результате вынужден страдать как от внутреннего конфликта, так и от изолирующего, унижающего и дисквалифицирующего поведения своего непосредственного начальства, то, пока ему просто помогают покинуть место действия, успокаивают и, так сказать, работают с ним в лоб, проблема останется решенной лишь частично. Кроме всего этого, ему нужно будет попробовать найти новый, креативный, продуктивный подход к объективным фактам: как к интересам бизнеса, безжалостно загрязняющего окружающую среду, так и к современному стилю руководства, который стремится подчинить личность работника корпоративным интересам1.
4. Четвертая причина заключается в том, что нам никогда не совладать с идущим вперед развитием. Ему нет конца. Каждая новая фаза развития человечества выдвигает новые задачи, порождает новые возможности и ставит на нашем пути новые проблемы, а также создает новую симптоматику. И частью этого безостановочного процесса развития является постоянно возникающая необходимость в новых методах диагностики и терапии.
Как строится ремесло психотерапевта
Этот взгляд на вопрос, почему стадия гармонии и счастья пока еще не достигнута, потребовал для своей выработки многих лет, на протяжении которых я практиковался в ремесле и искусстве психотерапии; я учился, повышал свою квалификацию и изучал богатый арсенал терапевтических течений и направлений ; наконец , в эти годы родился длинный ряд специальных упражнений, которые служат для того, чтобы сделать осязаемым психотерапевтический процесс, научиться понимать его и наметить пути его применения.
Эти упражнения составляют ядро данной книги. Я разрабатывал их вместе с моими коллегами, для которых они в первую очередь и предназначены. Цель этих упражнений состоит в том, чтобы приобрести личный опыт, интенсифицировать основополагающие элементы психотерапевтического ремесла. В соответствии с этим упражнения построены так, что каждый может составить свое мнение о тематике, воздействии и значении каждого упражнения для его собственной психотерапевтической практики.
Вопросы, которыми сопровождаются эти упражнения, построены таким образом, чтобы можно было отыскать в индивидуальном опыте закономерное. Работа в малых – из двух-трех человек – группах, в первую очередь, влияет на индивидуальный опыт. Поэтому первой задачей коллегиальной работы с комплексом упражнений является обобщение индивидуального опыта, подъем его до уровня общезначимого.
В связи с этим на первый план выходит следующая цель упражнений: найти ответ на вопрос, какое значение в практике психотерапевта имеет личный опыт. В конце каждого упражнения это формулируется так: «Теперь ты сам пережил то, что происходит во время и в результате упражнения. Каким, по-твоему, будет воздействие, если ты последовательно применишь описанную технику терапевтического вмешательства в подходящей терапевтической ситуации? Как ты думаешь, где и когда можно и нужно применять подобное вмешательство?» И, в случае, если может быть скорректировано общее представление о психотерапии: «Какое воздействие оказал этот опыт на твое понимание психотерапии?»
Из множества разнообразных ответов на последний вопрос с течением времени образовались более крупные и взаимосвязанные блоки. Это привело меня к тому, чтобы с бόльшим уважением относиться к специфике психических процессов, и приблизило к убеждению, что психотерапия не должна пытаться упрощать жизнь. Это помогло мне увидеть, что индивидуум есть часть большого единства, за которое он несет свою долю ответственности, и что стремление к собственному благополучию – лишь первый шаг.
Упражнения задуманы совершенно не для того, чтобы после их выполнения все пришли к тем же выводам, что и я. Зато их цель состоит в том, чтобы каждый мог найти собственный путь исследований и развивать собственные идеи в том , что касается построения психотерапии и пространства терапевтического вмешательства.
Предыстория упражнений
У этих упражнений длинная предыстория . Мы разрабатывали их на протяжении почти тридцати лет.
Главными станциями на этой дороге стал целый ряд небольших и более крупных «психологических сенсаций». Выражение «психологическая сенсация» мы употребили по аналогии с введенным Йоханом Хёйзингой термином «историческая сенсация». К нему отсылает Хенк ван Ос, когда описывает, как один-единственный образ или исторический памятник, «картинка или вещь вдруг делают реальность истории доступной переживанию»2. Эмоциональную сторону таких «сенсаций» Хёйзинга описывает словами «это пафос, опьянение взора». Это «наслаждение духовным познанием». После него тебя «охватывает радость нового познания, и ты начинаешь учиться»3. Прибегая к формулировке Маслоу4, данной им спустя двадцать лет, можно говорить о специфических «пиковых переживаниях», о таком опыте, который, однажды состоявшись, может одарить новым энтузиазмом и новыми идеями на всю оставшуюся жизнь.
Когда я оглядываюсь на мои собственные начальные шаги в психотерапии , то есть на период начала шестидесятых годов, у меня перед глазами встает картина путаного, едва ли не анархического этапа жизни. Не то чтобы я тогда переживал его так. Напротив, я переживал ситуацию так, будто все прежние соглашения утратили силу, и именно поэтому открылись просторы для любых новых путей. Главным теперь были самоотдача и личная убежденность. Это был критерий, определявший, следовать ли той или иной идее. Субъективная тяга к чемулибо перевешивала осмотрительность.
Энтузиазм едва ли можно было отличить от профессионализма – да и едва ли мы считали это различие важным! Но подспудно я переживаю – и сегодня гораздо отчетливее, чем тогда – двойственность: с одной стороны, восхищение правотой отстаивания собственного пути в период вседозволенности, а с другой – абсурдность собственных идей. Абсурдность, облекавшую себя, однако, в одежды глубоких познаний.
Это двойственное переживание нельзя рассматривать в отрыве от моих ранних психологических штудий, к тому же пропитанных философией, как и от дипломной работы, темой которой были визуальные послеобразы. Невозможно было совершенно не зависеть от этого в своей деятельности. Вопрос только, заработал ли я это или все-таки мне повезло.
Был один коллега, который по возвращении с сенситивного тренинга стал считать это высшей формой человеческих отношений, на конференциях при любом удобном случае обзывал других болванами, радовал свою жену демонстративными сообщениями, что он влюблен еще и в другую, и триумфально рассказывал о том, как на тренинге сцепился с профессором (которого, впрочем, вполне уважал). Я не осмелился бы смеяться над этим. Наоборот, такое поведение переносилось в терапевтическую практику.
Таков был тогда дух времени, всех охватил этот революционный угар, и вред от всего этого был, вероятно, не таким страшным, как это представляется нам теперь. Однако мне пришлось признать, что такой подход, когда идеи для терапии основываются непосредственно на упоительных личных переживаниях, может нанести вред. Одна женщина, страдавшая психозом, говорила, что психолог ее «будто на куски разбил».
На занятиях в группах, в которых я принимал тогда участие, и с закрытыми глазами ходили, и по подушке молотили, как будто подушка – это твой собственный отец, и садились на людей, чтобы высвободить агрессию, и прежде всего там практиковали саморазоблачение. Оглядываясь назад, я вижу во всем этом очень много от коллективных маний и теперь спрашиваю себя, не чересчур ли близко было все это к практикам тех сект, которые препятствуют свободному выражению собственного мнения и жестко карают любые отклонения. Малейшая попытка дистанцироваться влечет за собой исключение. Там можно пережить интересный опыт, но что он означает? Можно ли сказать, что он более чем интересен? Более чем тривиален? Наверное, участники найдут в этом что-то для себя, но можно ли назвать это терапией?
Много лет спустя приходится признать, что от большинства этих тусовок не осталось в практике ничего существенного. В ретроспективе можно говорить о «незначимых переживаниях», которые нетрудно пройти, а потом так же нетрудно забыть. Но чего же мы там достигли? Не лучше ли было бы ставить театральные спектакли, а параллельно заниматься серьезной психотерапией, вместо того чтобы перемешивать их друг с другом? В этом особом пространстве, в этом, так сказать, религиозном кружке занимались ли мы, собственно, саморазвитием? Однако, проведя там выходные, мы выходили с убеждением , что весь мир должен следовать тем же принципам.
Четкой границы между повседневной жизнью и психотерапией не существовало. Боксирование с подушкой подавалось чуть ли не как решающий успех, но оставался подспудный вопрос: а не фикция ли все это? Успех состоял прежде всего в том, чтобы преодолеть себя, поступить так, будто подушка – это отец, чтобы группа увидела, сколько агрессии вы можете продемонстрировать. Частенько группа оставалась недовольна увиденным. Однако того, кто был убедителен, кто – по тамошней терминологии – выдержал битву с отцом , она принимала в свои ласковые групповые объятия. Из всего этого можно сделать вывод, что такого рода проблемы с отцом нужно решать самому и что, когда в ходе терапии разрешаются проблемы с «квази-отцом», возникает и фиктивный мир. Представлять дело иначе – значит только все запутывать.
С объяснениями тоже все обстояло из рук вон плохо . Получить убедительное разъяснение, почему и как делать упражнение и как это упражнение согласуется с теорией, было почти невозможно. Все было ничем не обосновано – ничем, кроме, возможно, неотчетливого ощущения «освобождения от эмоций и привязанностей».
После шестидесятых годов студенческое движение пошло на убыль, и психотерапия опять оказалась под контролем. Уродливых новообразований больше не наблюдается, но вместе с тем исчез и фермент дальнейшего роста.
Я буду сейчас описывать индивидуальный путь , который привел меня к неустаревающим, фундаментальным вопросам психотерапии, касающимся значения используемых техник и их эффективности.
В шестидесятые годы прочно господствовала групповая психотерапия. Но отчасти ее позиция сместилась в сторону решения тех проблем, которые возникали только в ходе и посредством самой групповой терапии. Интересно, да, – но это только краем затрагивает то пространство, где кроются настоящие проблемы. Групповая терапия – это новая, особая реальность. Психодрама в классическом смысле, который вкладывал в нее Морено5, или в моем случае – в передаче Дина и Дорин Элефтери , напротив , пытается понять реальность , создавая «ненастоящую» ситуацию. В роли здесь-и-сейчас выступает там-и-тогда. При всей прямоте этот метод предоставляет великолепные возможности.
Итак, я часто прибегал к психодраме, в том числе и на индивидуальных сеансах, в качестве введения в ролевую игру. Мне это очень нравилось, потому что небольшая сценка типа «”Ты ничтожество, ты даже тарелку до конца доесть не в состоянии, чмо!” – так с тобой разговаривает твоя мать?» ставит реальную ситуацию в кавычки. И вместе с тем мне это совсем не нравилось, потому что чересчур много приходилось делать самому, а клиент оставался слишком зависимым. Не спектакль ли терапевт тут разыгрывает?! И такая психотерапия сразу терпит крах, если, например, клиентке она становится интереснее, чем ее собственный муж. Психотерапия не может ставить перед собой такую цель. Однако подобная прямота и жизненность действенны. Таким образом, насущный вопрос звучал так: можно ли провести беседу, которая дает качество восприятия, присущее психодраме, но так, чтобы терапевту не приходилось полностью брать на себя руководство разговором? Причем на тот момент все это было далеко не так ясно, как я это здесь сформулировал.
Я считаю , что теоретическое и практическое решение этого вопроса находится в труде Рудольфа Штайнера, большое внимание в котором он уделил феноменологии6. Феноменология начинается с восприятия, с детального и точного восприятия. Нет детали столь маловажной, что ею можно было бы пренебречь. Детализация восприятия закладывает краеугольный камень интерпретации, богатой и жизненно правдивой. Восприятие и мышление составляют плодотворную пару7. Связь между ними создает основу для правильной реакции – процесс, который в этой книге нашел свою дальнейшую разработку.
Едва ли можно найти отклик на мысли Рудольфа Штайнера в популярных течениях психологии. Для данного труда это означает следующее. Во-первых, нельзя использовать понятийный аппарат так, как будто он общеизвестен. Выбирая термины, придется их описывать или объяснять их происхождение. Я решил сделать так из уважения к труду Штайнера и в целях использования его терминологии. Во-вторых (и это не менее важно), я хочу не просто описать штайнеров-скую психологию, но одновременно предложить метод, дать прочную основу для понимания собственного подхода. Такой метод критического освоения важен прежде всего мне самому. Содержание и форма упражнений во многом предопределены желанием найти соответствующую методику.
По этой причине упражнения прорабатывались на курсах и мастер классах с участием моих коллег . Проводились беседы в парах «терапевт» – «клиент». Мы начинали с простого и на вид само собой разумеющегося , еще не зная , какой из этого должен вырасти комплекс упражнений.
«Представь себе ситуацию из прошлого и как можно точнее опиши ее. Моя задача как “терапевта” состоит в том, чтобы задавать вопросы, которые помогали бы более полному описанию ситуации. При этом я не буду принимать во внимание некоторые терапевтические условности и буду спрашивать в том числе о деталях, смысл или значение которых нельзя установить заранее».
Оба участника терапевтического процесса в высшей степени заинтересованы. Оба должны упорно трудиться: «терапевт» – чтобы силой своего воображения порождать новые вопросы и направления вопросов; «клиент» – чтобы искать ответы на те вопросы, которые поначалу ставят в тупик. Это такая форма терапевтического труда, когда клиент не может с комфортом уклоняться от трудностей : наоборот , от него требуется самоотдача. Клиент, с одной стороны, приходит в состояние прочной связи со своим прошлым, а с другой – дистанцируется от него. Именно эти два процесса являются надежными индикаторами автономии.
Количество вопросов и порожденных ими упражнений явно больше числа ответов. Так сплетается сеть упражнений. Какую роль играют различные органы чувств? Есть ли разница между «нормальными» и «травматическими» воспоминаниями? Следует ли обходиться с ранними воспоминаниями иначе, чем с поздними? Что типично для того или иного возраста? И так далее.
Психологическая сенсация
Обычно упражнения сопровождаются небольшими «психологическими сенсациями». Это могут быть наблюдения, которые мы раньше пропускали мимо ушей и которые затем проявились как имеющие важное значение. Например, если мы задаем вопросы о переживаниях в возрасте 7–14 лет, то будем часто получать ответы, содержащие слова «всегда» или «никогда». «По воскресеньям мы всегда ходили к бабушке и дедушке». Естественно, это происходило не «всегда». Может быть, «часто» или «очень часто», но, разумеется, не «всегда». Невозможно правильно пользоваться таким выражением, как «всегда». Аспект привычности сильнее, чем фактический аспект. Это приводит к открытию того факта, что качество воспоминания связано с возрастом и что можно найти или облегчить подход к определенному возрасту при помощи специфически возрастных акцентов, таких как «всегда» или «никогда». «Чем вы “всегда” занимались по воскресеньям?» «Как вы “всегда“ праздновали дни рождения?»8. В зрелом возрасте это превращается в прекрасно известный всем повод к ссорам типа «всегда /никогда»: «Вот ты всегда (делаешь )/ никогда (не делаешь)!..»
Иногда возникают «психологические сенсации» покрупнее. Одна такая произошла 15 лет назад во время прохождения курса в группе Арта-Ливехуда9, одной из тем исследования которой был жизненный путь. Поскольку примерно 20 участников группы представляли практически все возрасты от 25 до 60 лет, я попросил их разделиться на небольшие группы по семилетиям: 21–28, 28–35 лет и так далее10 и в этих группах обсудить, что они считают для своего возраста наиболее существенным. Двадцать минут спустя участники вернулись в большую группу. Я решил, что они рассядутся в порядке старшинства. Это было весьма любопытно. Не припомню, чтобы я когда-либо видел такое раньше или участвовал в чем-то подобном. Я не знал, что же произойдет. Таким образом, участники не вернулись на свои прежние места. Неразберихи и шума хватало: «Ты в каком месяце родился? А, ну, значит, я должен сидеть впереди тебя». Сидеть в кругу, выстроенном по возрасту, – это было очень непривычно и вместе с тем давало ощущение порядка. Каждый соединился со своим возрастом. Хочу ли я, чтобы меня определяли таким образом? Однако признание очевидного факта приносит радостное чувство освобождения. Я покинул свой преподавательский стол и занял место в группе от 49 до 56 лет, в которой мы решили, что будем внимательны к мелочам, встречающимся на нашем жизненном пути. Когда мы таким образом оказались лицом к лицу с фактом своего возраста, нам пришлось распрощаться с тайной, но заботливо культивируемой мыслью, что у нас еще все впереди и мы еще себя покажем, вот погодите!
Затем последовали сообщения от групп.
21 год – 28 лет: «Нам от 21 года до 28 лет, и мы наслаждаемся жизнью. Жизнь никогда не будет для нас достаточно разнообразной. Мы нащупываем границы. Мы любим экстрим. Путешествуем по миру. Мы самостоятельно выбираемся из больших проблем и больших трудностей. Мы полностью посвящаем себя тому, что считаем правильным. Мы не знаем, что такое упадок сил».
Затем 28–35 лет: «У нас есть потребность в стабильности. Мы хотим постоянства. Мы хотим...»
Выкрик из группы 21–28: «Смешно. Вы полумертвые и сами этого не замечаете. Это глубочайшее падение и вместе с тем наивысшее предательство законов юности...»
Общий гвалт не поднялся, но все к тому шло. Группа 21– 28 негодовала в наивном неведении того, что уже скоро их самих постигнет та же судьба. Что они сами будут делать то, что сейчас с таким негодованием отвергают. Члены группы 28–35 были растеряны, ведь они развивались вполне естественно, выразили то, что для них само собой разумелось, и теперь были огорошены тем, что кто-то обвиняет их в предательстве истинных ценностей.
Возникновение этой психологической сенсации связано с тем , как было организовано упражнение , и это привело в дальнейшем к распаду больших групп на подгруппы в определенной последовательности. Как правило, это возрастные группы. Эффективность такого разделения проявляется в том, что группы внезапно начинают вести себя спонтанно по отношению друг к другу.
Я испытал огромное воздействие такого разделения на подгруппы во время международного конгресса, в котором принимало участие 180 человек11. Группы были сформированы согласно году рождения, только в тот раз каждая группа охватывала пять лет: 1930–1935, 1935–1940, 1940–1945 и так далее. Каждая группа получила следующее указание: «Представь, что тебе 16 лет. В этом возрасте у человека обычно открываются глаза на социальную реальность. В это время человек наиболее непринужденно смотрит на общество, еще не будучи скомпрометированным участием в общественной жизни взрослых. Каковы с точки зрения тогдашнего шестнадцатилетнего важнейшие характеристики окружавшего тебя тогда мира?»
Группы выступали в порядке старшинства: от самых старших к самым младшим, и всемирная история проносилась перед нашими глазами подобно всесокрушающему цунами. Представители молодежи немели перед лицом наивности старших поколений, которые думали, что они построили мир, в то время как de facto они допустили его разграбление и оставили , и он оказался в гораздо худшем состоянии , чем в годы их юности . Старшие поколения жили в наивной уверенности, что враг придет извне, в декорациях холодной войны. Молодежь видела все самодовольство этого поколения. Младшие поколения поняли: нельзя больше утверждать, что все зло приходит откуда-то извне. Оно вырастает в самих людях. Каждый способен на все. Между «приличными людьми» и «плохими людьми » нет принципиальной разницы . Неужели вы этого не понимаете?
И вот тут то из моего ощущения , что этот исторический опыт нужно непременно интегрировать в психотерапию, и родился необратимый, решающий импульс.
Естественное развитие упражнений
Начиная с этого момента моя личная предыстория уступает место собственно содержанию книги. Книга представляет собой собрание разнообразных упражнений, порожденных вопросом о том, какие формы может принять психотерапия, чтобы не посягнуть ни на ответственность терапевта, ни на ответственность клиента. В то же время она требует прямой, открытой и теплой связи с повседневной реальностью.
Книга отражает также последовательность, в которой упражнения рождались. Существует естественная последовательность вопросов и решений. За вопросом о воспоминаниях и об опыте следует вопрос о влиянии тогдашней жизненной фазы. Так становится лучше видно, что воспоминания и выводы всегда окрашены в цвета того возраста, к которому относятся. Затем встает и вопрос о влиянии более широкого окружения – я имею в виду «культуру» и «историю». И, наконец, есть некая инстанция в человеке, которая делает выводы из того, что он совершил, которая задумывается о его жизненных целях и, исходя из этого, открывает для него будущее: его Я. И упражнения, и книга, и психотерапия логично завершаются вопросом о смыслах.
Глава 1. Восприятие, воспоминание и нечто большее
Ремесло психотерапевта в своей немалой части состоит из работы с воспоминаниями. С воспоминаниями о раннем детстве и с воспоминаниями о том, что было вчера. С позитивными воспоминаниями и травматическими воспоминаниями. С воспоминаниями о людях и с воспоминаниями о вещах . С воспоминаниями, о которых рассказывать – одно удовольствие, и с воспоминаниями, о которых рассказывать стыдно.
Пока нам как коллегам легко быть вместе. Но сразу за этими общими входными дверями начинается разлад. Буквально во всем. Нет единства по поводу значения воспоминаний: нужно обращаться к прошлому как можно чаще или как можно реже? По поводу злоупотребления воспоминаниями: разве не указывает синдром ложной памяти на возможность псевдовоспоминаний? По поводу размаха, который могут принять воспоминания: все ли накапливается в памяти или только часть, и если часть, то какая? По поводу того, почему и как происходит накопление воспоминаний . Образ ? Ощущение? Сопровождающая событие мысль? Или сделанный из него вывод?
По всем этим вопросам практически любое из направлений психотерапии имеет собственную позицию.
В этой главе – опираясь на Рудольфа Штайнера – мы принимаем точку зрения, согласно которой сокровищница доступных, проработанных воспоминаний тесно переплетена с переживанием собственной идентичности . Заботливое , душевное, интимное обхождение с собственными воспоминаниями ведет к осознанию того, кто ты есть12. Существенное усилие психотерапии должно быть направлено на то, чтобы усилить поисковые и удерживающие возможности воспоминаний, чтобы воспоминания наполнились жизнью и из них можно было извлечь урок. Основой такого подхода является оптимизм, направленный на то, что в результате прилежных упражнений воспоминания можно будет извлекать из их хранилища – не разрушая, в согласии с тем, как они были там сохранены.
Результатом может стать лучшая согласованность воспоминаний с жизнью, а это большое достижение в смысле осознания собственной идентичности. А ведь потеря идентичности – это основной симптом большинства клиентов.
В этой главе необходимо пояснить такие базисные понятия, как восприятие и воспоминание, а также разницу между ситуацией и событием. С определением этих понятий связаны практические терапевтические выводы.
Восприятие
Восприятие есть наша наиболее непосредственная связь с окружающим миром. Стоит восприятию прекратиться – если мы переносим взгляд на другой объект, попадаем в другое окружение, засыпаем и т. д., – прекращается и связь с окружением или какой-либо его частью. Обычно в результате воспринимающей активности остается «нечто». Если – хотим мы того или нет – это «нечто» снова всплывает в нашем сознании, мы говорим о воспоминании. При этом должно быть ясно: воспоминание – не копия исходного восприятия. Но вот что оно такое – об этом мы поговорим позже. Сначала нужно заняться проблемой восприятия.
Будем исходить из простейшей ситуации. Я пишу, сидя в комнате. В этот момент я воспринимаю то, что меня окружает, и делаю записи.
«Я сижу на удобном стуле, на который еще подложена подушка, чтобы сиденье было нужной высоты. Я пишу настоящей перьевой ручкой с черными чернилами. Солнце освещает вазу с тюльпанами сорта апельдорн. Время от времени по улице в сторону Мартенсдейка проезжают машины. Солнце освещает двойное стекло в передней и безжалостно демонстрирует, что оно все засижено мухами. Справа от себя я вижу закрытый ноутбук. Там же лежат мои очки. Я слышу, как в открытой кухне слева от меня со звуком, похожим на шум ветра, горит газ под кастрюлей с водой. Температура в комнате приятная».
Это описание можно продолжать сколько угодно. Темносерый телевизор, на котором стоит оловянная ваза с темнокрасными розами на фоне кремовых гардин. Мурлыканье кошки на диване. Пол из ясеня. Экологичная бумага, на которой я пишу. Деревья в саду, под ними буддлея с засохшими цветами, оставшимися с прошлой осени. Но всего этого – и чего угодно еще – не хватит , чтобы описать окружающую меня ситуацию.
К этому спокойному наблюдению за статичной ситуацией следует высказать несколько замечаний.
Если внимание переносится с содержания ситуации на сам процесс инвентаризации, случается, что с каждой новой деталью усиливается ощущение внутреннего богатства. Новые и новые акты восприятия влекут за собой ощущение индивидуальности. Чувственные впечатления не приходят и уходят подобно гостям , не оставляя следов . Они вызывают реакцию, которая относится к самому воспринимающему. В нем возникают впечатления, дающие ему ощущение полноты, ощущение жизни. Образуется личная связь. Посредством восприятия Я переживает самое себя.
Акты восприятия сразу же затрагивают предыдущие акты восприятия, сформировавшиеся понятия, ассоциативные ряды, ощущения. Воспринятое получает связь с предыдущим жизненным опытом. В этой точке восприятие приобретает личную окраску, а воспринимающий связывает себя с окружающими предметами при помощи особой, только ему присущей связи. Объективная сторона восприятия сразу и неразрывно связывается с субъективной ее стороной. Причем так крепко, что кажется – существует только субъективное восприятие: «Вещи таковы, какими я их вижу». Это почти неконтролируемое смешивание субъективного и объективного восприятия содержит два важных для повседневной психотерапевтической практики сигнала:
— акцент на деталях восприятия и воспоминания активирует и проясняет личное отношение к ситуации;
— нужно стараться достичь известного баланса между объективной и субъективной стороной восприятия; односторонне объективное восприятие безжизненно, а односторонне субъективное восприятие препятствует стабильности отношений с внешним миром.
Как уже говорилось, перечень всегда далеко не полон. Он всегда только часть того, что в принципе может быть воспринято. Что это будет за часть, зависит, естественно, от состояния моего чувственного инструментария: я различаю цвета; мой слух пока в полном порядке; но что у меня с обонянием? Кроме того, этот фрагмент зависит от того, где и когда восприятие происходит.
Воспоминание
Восприятие – это наиболее непосредственная связь с окружающим. Оно привязано к реальному присутствию воспринимаемых предметов в нашем окружении. Как только вещь перестает непосредственно присутствовать здесь и сейчас, ее восприятие становится невозможным. Тогда человеку приходится положиться на свою способность заново вызывать образы, оставленные предметами. Рудольф Штайнер так формулирует этот фундаментальный факт:
«…задумайтесь, что душа живет дальше во времени и что она как представление воспоминания берет с собой и сохраняет то, что она как бы завоевала в чувственном переживании. Это несет душа дальше»13.
Таким образом, существует принципиальная разница между элементарным чувственным восприятием и тем, какое воздействие оно оказывает на душу. Это воздействие восприятия на душу происходит в процессе внутреннего душевного переживания.
«Вы только тогда можете сохранить в своей душе впечатление от цвета, которое вы получили, направив взгляд на цвет, если оно находится внутри души, если оно есть внутреннее переживание души – так, что оно остается в душе. Таким образом, вы должны различать то, что происходит между душой и внешним миром как чувственное восприятие и тем, что вы извлекаете из воздействия внешнего мира и уносите с собой в душе»14.
Активность, на которую Рудольф Штайнер указывает как на предпосылку живого и доступного восприятия, в большой степени связана с интересом.
«Чувственное переживание, которое мы рассматриваем только по желанию, естественно, оказывает впечатление на нас по законам, которые работают между внешним миром и органом восприятия, но это рассматриваемое вами впечатление не продолжает существовать в дальнейшей душевной жизни»15.
Жак Люссейран также утверждает, что без интереса и внимания восприятие невозможно:
«Шаг за шагом я учился пониманию, что любовь – это видение, а ненависть – это слепота, ночь»16.
До сих пор это выглядит так: возможность вызывать воспоминание о прошедшем событии зависит от того, насколько осознанным было исходное впечатление и вызвало ли оно больший или меньший интерес. Очень важный для психиатрии вопрос состоит в том, не могут ли позже ожить – спонтанно, посредством триггера или осознанного усилия – и неосознанно полученные впечатления.
«Теория следов» допускает такую возможность. (Другая теория – это теория воспоминания как накопительной си-стемы17.) Согласно теории следов, чувственные впечатления оставляют следы в некой среде. Впечатления затрагивают среду, имеющую иную природу, нежели они сами. Штайнер сравнивает это со штемпелем, который оставляет отпечаток на сургуче.
«…на том, что здесь противопоставлено чувственному переживанию, оставляется приходящий извне отпечаток, оттиск. Он принимается. Точно так же, как вы не берете с собой печать, не берете вы с собой ни красок, ни звуков, вы забираете с собой то, что остается в душе как их отпе-чаток»18.
Один из ключевых тезисов Штайнера – и в этом он очень современен – заключается в том, что влияние чувственных впечатлений распространяется вплоть до силовых полей пси-хики19. Генриетта Деккерс-Аппель пишет об этом так:
«Этот центральный тезис Рудольфа Штайнера содержит далекоидущие практические выводы по нашей теме: как воздействует на человека окружающая его ситуация. Ведь если все полученные впечатления […] оказывают дальнейшее воздействие на психические процессы, значит […] к концу жизненного пути внешний мир становится внутренним миром, причем вплоть до психических сил, формирующих органы»20.
Как говорят англичане, the body keeps the score – тело ведет счет.
Теория накопления воздерживается от мысли о дальнейшем воздействии на психику, поскольку исходит из предположения, что чувственно воспринятое в своем странствии по внутреннему миру остается неизменным, наподобие воздушного шара, который может еле виднеться вдали или пропасть в тумане , но так или иначе он есть .
Однако если восприятие налагает отпечаток на некую среду и становится воспоминанием, тогда вспоминать – значит создавать представление, в котором можно считать или нащупать этот отпечаток, точно так же как воспринимать – значит читать или ощупывать внешний мир. Тогда восприятие внешнего мира и воспоминание – это процессы, которые сильнейшим образом определяют друг друга. Если представление касается воспоминания, тогда речь идет о представлении о воспоминании. Обыкновенно такое представление воспоминания называют «воспоминанием».
Вопрос о том, что это за среда («сургуч»), заслуживает тщательного изучения, но что бы это ни было, отчетливо видно, что резервуар наших воспоминаний намного объемнее того, что обычно находится в нашем распоряжении в качестве таковых. Этот факт служит основой практических рекомендаций и техник, которые будут представлены ниже – в этой главе и в упражнениях.
Важность воспоминаний
Осознанное, свободное обращение к воспоминаниям порождает чувство идентичности с самим собой. Тот, кто не помнит, что он пережил за последнюю неделю, тому не на что опереться. Штайнер так формулирует связь между воспоминанием и переживанием:
«Мы чувствуем, мы суть в этой земной жизни по-настоящему именно то, о чем мы можем вспомнить»21.
Затрудненность воспоминаний и трудности с самоидентификацией неотделимы друг от друга. Переживание собственной идентичности связано с осознанием собственной жизненной истории. Ведь «сокровищница воспоминаний» есть то, что «делает нашу жизнь одним целым»22.
Однако способность разных людей вызывать и сохранять воспоминания очень сильно варьирует. Качество этой сокровищницы воспоминаний зависит от различных аспектов.
Охватывают ли воспоминания широкую непрерывную область, связаны ли они в длинные цепи? В терапии есть важный вопрос, который звучит так: имеется ли у человека непрерывная линия воспоминаний с того момента, как он начал себя помнить? Иногда ответы говорят об отсутствии континуитета (непрерывности): не хватает отдельных периодов, воспоминания начинаются поздно, видение прошлого носит парциальный, или фрагментарный характер. Кстати, постоянно оказывается, что где-то в воспоминаниях зияет трудно заполняемая лакуна. При этом проблема заключается в том, что соответствующий период вряд ли может внести существенный вклад в сокровищницу воспоминаний: «потому что вообще-то ничего такого особенного не происходило»23.
Один из фундаментальнейших советов, которые дает человечеству Будда в своем так называемом «восьмеричном пути», заключается в том, что следует правильно обращаться с собственными воспоминаниями . Пронизать сознанием собственное прошлое важно потому, что это привносит в воспоминания порядок, который влияет на сегодняшнюю жизнь.
Говоря словами Рудольфа Штайнера, седьмое наставление Будды гласит:
«…мы тем привносим порядок в нашу жизнь, что не всегда забываем вчера, если нам нужно действовать сегодня. Если бы нам приходилось каждый раз заново учиться всем нашим навыкам и умениям, то мы никогда не были бы в состоянии что-либо сделать. Человек должен пытаться обо всех вещах своего здесь-бытия составить мысль, составить воспоминание. Ему нужно все время ценить то, чему он уже выучился, его настоящее должно опираться на прошлое. Таким образом, говорят буддисты, человек усваивает на восьмеричном пути “правильное воспоминание”»24.
Психотерапевтические направления, делающие односторонний акцент на интуиции текущего момента, грешат как раз против этого.
Как выработать способность свободного доступа к воспоминаниям? Не все рáвно способны выбрать период своей жизни и вызвать его в памяти во всей полноте красок и запахов. Многие люди в этом пассивны и в состоянии извлечь на свет божий только те воспоминания, повод к которым им случайно дает ситуация. Тем самым они оставляют в небрежении возможность дать расцвести способности к осознанному воспоминанию25. Укрепление способности к произвольному воспоминанию представляет собой, независимо от содержания самих воспоминаний, важный элемент переживания собственной идентичности. Посредством припоминания, то есть пробуждения представлений о воспоминаниях по собственной инициативе и относительно самостоятельно избранной области пространства и времени, закладывается основа для автономии человека перед лицом его окружения. Есть большая разница, вспоминает ли душа только о том, о чем ей случайно напоминают обстоятельства, или же она сознательно укрепляет свою способность самостоятельно вызывать воспоминания.
Посредством внутренней активности «душа переживает себя в своей настоящей внутренней, самостоятельной сущности, пока она в привычном дневном бодрствовании через разворачивание в нем своих слабых сил только с помощью тела приводит к осознанию, то есть не переживает саму себя, а сохраняется только в том образе , который – как своего рода отражение в зеркале – тело (точнее, процессы в нем) разворачивает перед ней»26.
Это одна из ключевых фраз данной книги. Душа, переживающая себя посредством внутренней активности, то есть активно организующая собственное содержание, будет отличаться от души, колышащейся на волнах впечатлений, приходящих к ней посредством чувственного восприятия извне, и от процессов в собственном теле . В этом она отражает сама себя и переживает здесь-бытие, которое в противном случае не представляет собой ничего, кроме суммы впечатлений. Следующий шаг в формировании идентичности – это переход к активной ответственности за восприятие и воспоминание. Ошибка классического психоанализа состоит в том, что он обращает внимание на содержание воспоминаний, но пренебрегает развитием «мускулатуры активного вспоминания». Поэтому он может внести лишь очень малый вклад в укрепление идентичности.
Воспоминания разных людей часто очень сильно отличаются по своему качеству. Выразим контраст нарочито резко: в одном случае речь может идти о «сокровищнице », а в другом – о едва сочащемся полуиссякшем источнике, который почти ничего не приносит своему владельцу. Впечатления раннего детства очень долго сохраняют силу своего воздействия. Позитивные впечатления юношеских лет окрашивают жизнь в легкие тона.
«Легкость, с которой мы нашу душу, а возможно – и нашу физическую телесность, более или менее ловко приспосабливаем к жизни и ведем через здесь-бытие, мы имеем благодаря тому обстоятельству, что в юности могли жить не в депрессии, а в радости, что приобщались к чему-то через радость. Эти радостные душевные впечатления – и есть то , что сообщило нам определенную радостность , укорененную в нас глубоко и накладывающую отпечаток на дальнейшую жизнь»27.
Если в процессе воспитания ребенок получает мало впечатлений или они носят нездоровый характер, он может вырасти человеком «разрушенной природы»28. Штайнер в 1919 году, то есть почти век назад, писал, что видит вокруг «необычайно много» таких. В терминах сегодняшней диагностики нужно было бы говорить о нарушениях личностного развития.
Особое значение и ценность для жизни имеют воспоминания о пиковых состояниях29, а также о близких к смерти пере-живаниях30.
Не все содержимое сокровищницы воспоминаний мы с удовольствием вызываем в памяти. Бывают воспоминания, подрывающие идентичность. Существует шкала градации таких воспоминаний: от простых негативных впечатлений до серьезных, долгодействующих психотравм31. Бывают воспоминания, нарушающие равновесие целостного функционирования личности. От нас требуются сознательный выбор и сознательное усилие , чтобы превратить воспоминания , враждебные Я, в воспоминания, созидающие Я. И хотя сознательный выбор и сознательное усилие представляют собой наилучшую предпосылку для интеграции негативных отягощающих воспоминаний, даже при благоприятных условиях не всегда есть уверенность, что они смогут внести свой вклад в формирование идентичности. Например, Эренфрид Пфайффер считал разрыв со своим прошлым настолько необратимым, что мог писать о периоде до окончания Первой мировой войны только в третьем лице.
«Видеть Нюрнберг разрушенным и дом, в котором мы жили, лежащим в руинах – это означало, что ни одно воспоминание о тех годах не имело больше под собой физической основы. Не осталось ни одной тропинки в детство; и во многих отношениях это привело меня к полному разрыву с моей юностью, настолько, что мне пришлось писать об этом времени только в третьем лице: тот ребенок, тот юноша – словно о постороннем человеке»32.
Как только нарушения континуитета или качества воспоминаний переходят известные границы и тем самым наносится вред нормальному функционированию, это приводит к патологическому состоянию33.
Это происходит в таких тяжелых случаях нарушений непрерывности воспоминаний, как «амнезийные нарушения» (вследствие наркозависимости или соматических заболеваний), при «психогенной амнезии», которую называют сегодня «диссоциативной амнезией», при «диссоциативной фуге», при «диссоциативном нарушении идентичности», а также – в ограниченных масштабах – при «синдроме деперсонализации».
Низкое качество и низкий охват воспоминаний связаны с «проблемами идентичности» и, способствуя утрате радости от собственной идентичности, могут служить причиной «дистимии» или «депрессии в узком смысле». Почти всегда это представляет собой один из аспектов явления деперсонализации.
При постоянных, интрузивных травматических воспоминаниях можно говорить о диагнозе «посттравматическое стрессовое расстройство».
Встает вопрос: а могут ли вообще наши воспоминания быть достаточно полными, чтобы в ретроспективе позволить нам увидеть реалистичную, объективную картину прошлого? Тревогу по этому поводу я считаю необоснованной. Разумеется, мы не располагаем всеохватывающим и полным набором воспоминаний, верно отражающих истину. Результаты экспериментов, при которых в аудитории неожиданно разыгрывалась сцена и студенты должны были ее потом повторить, более чем огорчительны. Единственным непреложным фактом остается то, что наше видение реальности всегда ограничено, как ограничена и наша способность к припоминанию. Почему бы нам не сосредоточиться просто на том, чтобы поточнее и с искренним интересом воссоздавать и пересоздавать то , чем мы располагаем в наших кладовых памяти? С точки зрения психотерапии, это будет означать процесс связывания с собственными воспоминаниями и роста интереса к ним. Тогда воспоминания становятся частью запаса памяти, доступ к которому мы сознательно организуем. Наряду с этим стоит ожидать, что будет уменьшаться отчуждение от содержания изначальных ситуаций и изначальных воспоминаний.
«Пример из практики»
Вызывание воспоминаний. Терапевтический диалог.
Дружески рекомендуемый средний путь между «отпустить» и «закрепить»
Жизненная ткань матери начинается с тоненькой ниточки, да и отца также. Тогда они узнали и нашли друг друга. Когда родились дети, оказалось, что ткань эта слишком редкая и рвется. Отец собирает вещи, мать страдает от разрыва. Сын, младший ребенок, вспоминает, что в тот момент мир внезапно стал другим. До этого он был малышом, подолгу и с восторгом игравшим на улице с другими детьми. Когда пришли перемены, он не мог скрывать в своем сердце жгучую боль и потерял способность к осознанию . Потом он уже был не в состоянии многое вспомнить, но, став взрослым, страдал от страха перед коллективом, который научился преодолевать, погружаясь в контакты один на один. Логика карьерного роста потребовала, чтобы он взял на себя руководство группой работников. С помощью психотерапевта ему удалось найти, откуда берет начало этот страх. Очевидно, что под влиянием семейной драмы энергичный экстраверт стал запертым в себе домоседом. Мальчик перестал понимать, чем заняты другие дети, прежние правила игры стали для него непостижимы, он по-прежнему что-то делает, но игра проходит мимо. Он не понимает, что именно из-за этого другие дети обзывают его и смеются над ним, донимают и, наконец, прогоняют его. Так мало-помалу становится очевидной диссоциация. Теперь, став взрослым, он проливает на это свет, понимает, что происходит, – и хочет исправить дело.
Актуальная ситуация. Карьерный шаг влечет за собой конкретные последствия. Ему нужно продемонстрировать в новой группе работников свои деловые качества и предложить план развития. Он рассказывает: «Все шло хорошо, я знал, что я хочу сказать, и вдруг потерял нить рассуждений. Осталась только огромная мука и пустая голова. Я весь покрылся холодным потом и не мог больше произнести ни слова. К счастью, после минутной паузы текст вернулся ко мне откуда-то извне – и я на автопилоте продолжил говорить. Ночью я не мог спать: ты был смешон, идиот несчастный, куда ты лезешь… Однако назавтра никто ничего не сказал: слава богу, проскочило».
«Из-за чего ты потерял мысль?»
«Понятия не имею, неважно, я уже рассказал все, что можно было, главное, я рад, что все закончилось нормально».
Терапевт пробует копнуть глубже.
«Ты потерял мысль, когда стал говорить о своих планах?» «Нет, я, правда, не помню, все что угодно могло быть».
«Может, кто-то с интересом посмотрел в окно, тут-то ты и потерял мысль?»
«Да нет, я ничего такого не заметил».
«А может быть, ты как раз рассказывал, почему тебя повысили и…»
«Нет, об этом я четко и ясно сказал».
«Могло так случиться, что тот, кого обошли при повышении, тоже был в зале…»
«Я об этом подумал. Нет, я потерял мысль не поэтому».
«Бывает, вдруг замечаешь, что дрожишь, или потеешь, или что ты горячий – и от этого можно потерять нить рассуждений...»
«О! Вспомнил! Я отпустил шутку, очень удачную, а в зале – никакой реакции , никто даже не улыбнулся . Тут-то я и потерял нить – и все, ни слова больше не мог из себя выдавить, и конца этому не было – я стоял там , как идиот . А ночью как накатит страх: все, я опозорился, вышибут они меня».
«Ситуации» и «события»
«Ситуация» – это фрагмент внешнего мира, в котором человек находится в определенный момент времени и который доступен его восприятию. В моем случае это было рабочее место в комнате, описанное выше. Когда пять минут спустя я вынимал почту из ящика, ситуация изменилась: я видел почти серое небо, буки, хорошо знакомый мне зеленый почтовый ящик, проезжающий мимо кабриолет. И так одна за другой следуют все новые и новые ситуации.
Таким образом, ситуация меняется ежесекундно; ее определяет все, что в этот момент и в этой точке пространства доступно наблюдению. Время съеживается до мгновения. Это понятие охватывает как воспринимаемые в данный момент ситуации, так и ситуации, о которых мы вспоминаем. Такие ситуации также поддаются ощупыванию: ведь и здесь можно произвести инвентаризацию чувственных впечатлений.
В результате такого ощупывания – о нем нам еще придется поговорить отдельно – усиливается ощущение присутствия (благодаря пониманию собственной связи с данной ситуацией); в связи с этим растет ощущение идентичности. Упражнения, касающиеся данной темы, помогают лучше разглядеть путь к этому эффекту и делают более отчетливым само воздействие (упражнение 1.1. Чувственное углубление в «ситуацию» / упражнение 1.2. Единственное чувство).
Значение, которое принимают здесь чувственные впечатления (и их исследование), связано с тем, что в чувственных впечатлениях Я переживает само себя. При помощи чувственных переживаний Я может снова и снова определять себя: «Я есмь то, что я воспринял». Часто эта взаимосвязь между чувственными впечатлениями и самоидентичностью раскрывается в историях, происходящих в путешествиях. Тот аспект Я, который мы таким образом переживаем, Рудольф Штайнер называет «Я-человеком»: «…Я [привносит] результаты чувственных процессов в свой опыт и строит себе из него структуру своего внутреннего реального «Я-человека»34.
Для некоторых авторов такое отношение к окружающим предметам становится богатейшим источником автобиографической документальной прозы. Марио Прас35 посредством всех тех произведений искусства, которые он собрал в своем доме, описывает самого себя. Жульен Веверберг36 в качестве исходного пункта своего автобиографического исследования выбирает 149 предметов, которыми он владел. Обоснование: это не переживание самого Я как такового, но это почти то, что переживает Я. Ответ на это возможен, только если задаться вопросом: что мы суть помимо чувственных впечатле-ний?37 Это одна из тем последней главы нашей книги.
Однако жизнь состоит не из отдельных, не связанных между собой ситуаций, а из взаимосвязанных. Взаимосвязанные ситуации образуют «событие». Возьмем в качестве примера последовательность ситуаций, как о ней мог бы рассказать клиент на приеме у психотерапевта.
«Я пошел к коллеге на день рождения. Выпил слишком много виски, а моя жена не могла найти ключи от машины. На обратном пути мы страшно разругались».
Некоторые ситуации описываются совершенно рудиментарно. Описание начинается с упоминания о дне рождения коллеги. Сколько народу там было? Где происходил праздник? Было шумно? Звучала музыка? С кем клиент там общался? О чем они говорили? Было тесно или просторно?
Прохладно или жарко? Где была его жена, пока он общался с другими гостями ?
Следующий факт: он выпил слишком много виски. Кто наливал ему виски? Как он его пьет? Залпом? Медленно? В компании или стоя в одиночестве на балконе? Каким было его физическое состояние после первого стакана? В какой момент оказалось, что он не просто выпил, а выпил слишком много? В чем это выразилось? С кем он в тот момент разговаривал? Который был час?
Точно так же нужно дополнить ситуацию с ключами от машины и со ссорой.
Но и это не все. Что происходило в промежутке между приходом в гости и тем моментом, когда клиент начал пить? Он спокойно беседовал с коллегами, все было прекрасно – и вдруг перестал . О чем у них шла речь ? И почему вдруг он ушел? Был ли тому причиной кто-то из гостей, который говорил все о машинах да о машинах? Или гостей позвали к столу? И как он отреагировал на эту перемену?
Что произошло между девятью и десятью часами? Играли в покер ? Он выиграл или проиграл ? Попробовал поговорить с шефом ? Упомянул о том , как хорошо – по его мнению – работал, и заложил базу для будущего повышения по службе?
Идем дальше. Как он готовился к празднику? Что надел? Какой купил подарок? Когда начал задумываться о предстоящем событии? Или просто пришел с мыслью: «Ладно, увидим»? Как ему удалось сделать так, что его жена пошла не в кино на фильм, о котором давно мечтала, а на день рождения к его коллеге ?
Каковы были последствия ссоры? Бессонная ночь? Было ли у него чувство вины, и что он с этим делал? Что решил? Не пить больше? Купить жене цветы? Или решил, что лучше всего ему будет теперь поискать новое место работы? Или они с женой поедут на уикенд в Вену , чтобы придать новый импульс отношениям?
Придется потрудиться, чтобы составить полную картину того, что произошло в тот вечер. Ведь в идеале для этого нужно вообразить всю последовательность ситуаций. Это как фильм, в котором каждый кадр должен быть прорисован. Понять, что в действительности произошло, можно только исходя из общей картины. Услышав такой разговор, можно уже после первых предложений вообразить, что точно понимаешь картину происшедшего («Ты же вечно затеваешь ссоры»); однако, если желаешь быть беспристрастным, следует подождать, пока не проявятся все детали. Только тогда можно будет попробовать дать интерпретацию причин случившегося. Может быть, клиент в тот вечер влюбился, а его жена приревновала. Может быть, клиент страдал от ревматизма и хотел выпивкой заглушить боль. Может быть, в тот вечер прошел слушок, что на фирме скоро начнется полная реструктуризация. Может оказаться, что ключи, которые никак не могла отыскать жена, – это незначительная деталь, которая послужила просто последней каплей. Однако, если жена увидела, что ее супруг пьет больше, чем нужно, и поэтому забрала у него ключи, – это может играть важную роль во всем происшедшем. Возможно, она уже давно искала повода для ссоры.
Первое терапевтическое действие состоит в том, чтобы представить каждую отдельную ситуацию как можно более живо; второе – в том, чтобы выстроить их по порядку. Сначала заполняем пространство, затем время. Результатом этих действий станет дифференцированная картина происшедшего. Проявится событие (упражнение 1.1. Чувственное углуб-ле ние в «ситуацию» / упражнение 1.3. Исследование «события»).
На этапе поиска «события» или «событий» мы осматриваем ситуацию, не задаваясь вопросами о диагнозе и лечении, и занимаемся исключительно восстановлением событийного ряда. Наблюдение за этими процессами требует чувствительности к мельчайшим нюансам. Где и когда возникла потребность напиться? Вызвана ли она унизительным замечанием со стороны супруги? Уже которым по счету? Или ее злым взглядом? Как именно упало настроение? Что клиент при этом подумал? Вышел ли он сразу за дверь или постарался как-то обставить свой уход, чтобы оставить после себя благоприятное впечатление?
Все это требует от терапевта особого настроя и режима работы. Он составляет себе картину того, что произошло, и при этом все время спрашивает себя, завершен ли процесс, нет ли грубых швов и стыков между событиями, все ли учтено. Он как бы со-движется с этим процессом. Он постоянно задается вопросом, что происходило вокруг, какое это оказывало влияние и как выглядела реакция клиента. Он взвешивает. Его работа состоит в том, чтобы войти в ситуацию в качестве посетителя и влиться в ее динамику, но при этом параллельно помогать реконструировать ее. Он создает себе представление о том, как можно адекватно описать процесс, который он переживает, идя вместе с клиентом через последовательность ситуаций. Нарастающий гнев? Фрустрация из-за нехватки чужого внимания? Ощущает ли клиент, что начинает влюбляться в другую женщину? Терапевт обсуждает с клиентом возможные варианты интерпретаций. Обычно случается, что интерпретация события озаряет терапевта и клиента одновременно. Однако последнее слово, естественно, остается не за терапевтом, а за клиентом.
При обсуждении события важно, чтобы изменения и отклонения оставались в фокусе. При каждом введении новой детали – то есть при более внимательном исследовании каждой отдельной ситуации – относительная ценность данного фрагмента события меняется. А вместе с ним меняются описание и интерпретация события. Описанный выше процесс может стать поводом к разговору об употреблении алкоголя, о склонности всегда говорить «да », о том , что такое дружба , о том , как праздновать день рождения , о супружеских конфликтах, о том, что делать, когда устал, об отношениях с начальством, об удовлетворенности профессией, о современном стиле управления. События не подлежат множественной интерпретации в том смысле, что одну интерпретацию можно с тем же успехом заменить другой , как будто они равноценны, но их можно интерпретировать по-разному в том смысле, что любое событие принципиально многомерно и его можно описать только с разных точек зрения, а значит, посредством многих различных интерпретаций сразу (упражнение 1.9 а, b, c, d. О понимании ситуации).
Соответствующий событиям терапевтический процесс состоит из возвратно-поступательных движений, колебаний между расширением представления о событии посредством введения новых и новых ситуаций, из которых оно складывается, и поиском интерпретаций, подходящих к развернувшимся и еще разворачивающимся перед исследователем фактам. Для клиента результат будет заключаться в укреплении чувства идентичности, дающего уверенное понимание характера ситуаций, в которых он находится, и уверенность в том , как ему на них реагировать . Такой результат означает , что клиент лучше узнает свое окружение и одновременно растут его знания о самом себе.
Терапевт выполняет при всем при этом двойную функцию. С одной стороны , он направляет свое внимание на фактическую сторону конкретных событий, а с другой – укрепляет интерес клиента и его способность самостоятельно думать об обсуждаемых событиях, проявляя при этом активное внимание.
В тех абзацах , где речь шла о ситуациях , мы уже говорили об идентичности. Однако тогда говорилось о том, что укрепление идентичности связано с усилением ощущения присутствия в фактической ситуации, характер которой все время обогащается. Здесь же мы скажем, напротив, что идентичность развивается благодаря активному сознательному присутствию и способствует познанию – когнитивно дифференцированной, глубокой проработке ситуации. Первый аспект идентичности является необходимой предпосылкой второго.
Кратко об этом можно было бы сказать так: «Я понимаю, что я живу» и «Я знаю, что именно я переживаю».
«Пример из практики»
Восстановление способности к восприятию после неблагоприятного воздействия путем индоктринации
Студент Академии искусств обратился к терапевту в состоянии сильного беспокойства и растерянности, возникшем у него во время прослушивания курса лекций «Иконография на протяжении столетий». Перед его профессиональным взором проходили средневековые церкви и соборы, главы из обоих Заветов, посвященные сатанинским искушениям, изображения святых и мучеников, картины рая и ада, лица епископов и ангелов. Ему стало плохо от всего этого, снова и снова его преследовали дурнота и тошнота. «Идолопоклонство, – слышалось ему повсюду. – Это мир отступников, неизбранных. Что сделает Бог, если увидит, чем я занимаюсь, ведь от него ничего не скроешь». Он утверждает: «От отступников нужно держаться подальше, единственная цель – это служение Господу и следование Его служителю Иисусу». Он помнит наизусть все проповеди, прослушанные им за последние двадцать лет; они все время звучат у него в ушах, накладывая свой отпечаток на восприятие, на жизнь, на людей, на отношение к ним. В их свете, как в свете молнии, он сразу различает, кто избранный, а кто отступник: добро есть непрестанное возвращение к Господу.
Терапевт поворачивает разговор к исходному мотиву: стать художником. И слышит в ответ бормотание: «Тогда будешь ты свободен от всех суждений, свободен, чтобы творить, ибо природа Бога непорочна». Он хотел писать натюрморты? Пейзажи? Студент в ответ: «Да, да, они на это надеются – это безопасно! Но я хочу – я хочу не только этого, – продолжает он увереннее, – нет, еще и людей, я хочу писать и познавать других людей и другие миры. Для меня самое лучшее в искусстве – это то, что я могу идти этим путем в обход… но все-таки не получается. Мне нужно понять, как избавиться от этой тошноты и дурноты».
Терапевт делает осторожное предположение относительно того, в чем может заключаться нарушение восприятия у клиента: оно уже с юных лет замутнено тем, что он смотрит на мир сквозь очки, стекла которых отшлифованы его религиозным воспитанием. Еще осторожнее он предполагает, что восприятие и непринужденность не могут существовать друг без друга, в том числе и у художника. Когда они приходят на этот счет к согласию, то начинают вместе строить план поэтапной работы.
Первый шаг: предложить клиенту как можно нагляднее описать те события и ситуации, из которых складывалась его индоктринация. Он должен все подвергнуть сознательному исследованию: фундаментальные религиозные догмы, жизненные принципы, взгляд на инакомыслящих и инаковеру-ющих, изучить случаи осуждения и реакции на нарушение (например – на глухое молчание одного из членов его семьи, изгнанного из церкви), чтобы суметь за всем этим увидеть картину целого.
Второй шаг: попытаться, если это возможно, определить собственную точку зрения на некоторые религиозные положения, выработать собственное суждение о них. При этом воспринимать свои соматические реакции на обдумывание собственных суждений или на их формулировку, а затем на сеансах попробовать вместе с терапевтом эти реакции классифицировать.
Третий шаг: начать искать свой собственный реальный и индивидуальный путь веры – можно назвать это стадией богословского переосмысления (Um-Theologisieren)38, – который он сам был бы в состоянии обозреть и который соответствовал бы его жизненной реальности.
Четвертый шаг: выстроить аутентичные навыки восприятия. Заново открыться для впечатлений из внешнего и внутреннего мира.
Комплексное понятие «событие»
Мне стоило большого труда ухватить и сформулировать понятие «событие». Поначалу мне казалось ясным, что нужно понимать под «событием». Я думал, что это понятие отчетливо ограничено. Событие – это, например, «ссора» или «мытье посуды», «истеричный плач» или «травма». Однако чем дальше я углублялся в вопрос, тем менее понятным становилось, когда и с чего начинается событие и чем оно заканчивается. В конце концов, по мере нарастания числа деталей стало непонятно, на что же, собственно, можно наклеить ярлычок «событие».
Начнем с первого вопроса: в котором часу начинается истерика, если слезы появляются в пять вечера? Утром, когда встаешь с постели уже в настроении поплакать? В тот момент, когда муж делает некое общее замечание? Или все началось еще раньше, раз жена чувствует себя настолько беззащитной, что не в состоянии пропускать общие замечания мимо ушей? Или истерика вызвана целым рядом унизительных замечаний, она медленно накапливалась подобно водохранилищу? И нужно ли приравнять стадию накопления этого водохранилища к истерике или все-таки нет? И если приступ истерики вызван напряженной телепередачей, это значит, что она к этому времени все-таки уже имела место ? Или нет ? Можно ли говорить о фазе развертывания и фазе протекания самого процесса истерики? Как долго длятся фазы и по каким проявлениям их можно идентифицировать?
Второй вопрос: с чего начинается и чем заканчивается истерика? Я попробовал применить здесь аристотелевские понятия «потенция» и «акт». Событие начинается, когда есть замысел, который осуществляется. Оно прошло, если замысел осуществился и принял внешнюю форму. Что меня не удовлетворяло в этой модели, так это тот факт, что не все события начинаются с замысла, так же как и не все события завершаются результатом, который можно было бы ясно описать. Иногда начало связано с влиянием извне. Окончание может быть размытым, оно может постепенно переходить в новое намерение и в новую активность. К последствиям истерики можно отнести и своего рода гармонию, установившуюся после нее, так что вечером супруги уже строят планы на отпуск.
Третий вопрос связан с тем описанным выше явлением, что при детальной инвентаризации ситуаций их можно интерпретировать самыми разными способами. Тогда уже можно говорить о плаче, о ранимости, об отношениях с мужем, о том , какое воздействие оказала потеря отца , скончавшегося четырнадцать дней назад, о роли чрезмерной усталости. Все названные пункты и правда сыграли свою определенную роль. Все они могут быть затронуты во время терапевтических бесед. Разумеется, не одновременно, а один за другим. Обсуждение одного аспекта открывает доступ к следующему.