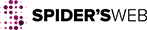Oferta wyłącznie dla osób z aktywnym abonamentem Legimi. Uzyskujesz dostęp do książki na czas opłacania subskrypcji.
14,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 14,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 14,99 zł
Zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego i kupuj ebooki, audiobooki oraz książki papierowe do 50% taniej.
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: КСД
- Kategoria: Romanse i erotyka•Romanse
- Język: rosyjski
Когда ты влюблен, что может пойти не так? Юный Ренцо и прекрасная Лючия мечтали о свадьбе. Но накануне счастливого дня их поражает грозное известие: брак не состоится. Священнику дону Аббондио пригрозили расправой, если он соединит обетом сердца влюбленных. Хорошенькая невеста приглянулась алчному и беспринципному дону Родриго. Он готов убить жениха, чтобы завладеть Лючией. Влюбленные решают бежать из родного села. Лючию прячут в стенах монастыря, а Ренцо отправляется в Милан. Но один из головорезов дона Родриго узнает, где скрывается Лючия. В Милане вспыхивает эпидемия «черной смерти», и Ренцо оказывается в эпицентре. Кажется, что надежды на спасение нет. Но там, где жестокая судьба расставляет смертельные ловушки, только любовь способна найти путь спасения…
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 1031
Podobne
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2020
ISBN 978-617-12-8022-9 (epub)
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства
Электронная версия создана по изданию:
Переведено по изданию:Manzoni A. I Promessi Sposi : Romanzo / Alessandro Manzoni. — 386 p.
Перевод с итальянскогоАлександра Оржицкого
В оформлении обложки использована картинаХьюга Мерли«Ромео и Джульетта»
Коли ти закоханий, що може бути не так? Юний Ренцо і прекрасна Лючія мріяли про весілля. Та напередодні щасливого дня їх вражає лиха звістка: одруження не відбудеться. Священикові дону Аббондіо пригрозили розправою, якщо він з’єднає обітницею серця закоханих. Гарненька наречена сподобалася жадібному та безпринципному дону Родріго. Він готовий вбити нареченого, щоб заволодіти Лючією. Закохані тікають із рідного села. Лючію переховують у стінах монастиря, а Ренцо вирушає до Мілана. Один із головорізів дона Родріго дізнається, де ховається Лючія. У Мілані спалахує епідемія «чорної смерті», і Ренцо опиняється в епіцентрі.Здається, надії на порятунок немає. Але там, де жорстока доля розставляє смертельні пастки, тільки любов здатна знайти шлях до порятунку...
Мандзони А.
М23 Обрученные : роман / Алессандро Мандзони ; пер. с ит. А. Оржицкого. —Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,2020. — 752 с.
ISBN 978-617-12-7683-3
Когда ты влюблен, что может пойти не так? Юный Ренцо и прекрасная Лючия мечтали о свадьбе. Но накануне счастливого дня их поражает грозное известие: брак не состоится. Священнику дону Аббондио пригрозили расправой, если он соединит обетом сердца влюбленных. Хорошенькая невеста приглянулась алчному и беспринципному дону Родриго. Он готов убить жениха, чтобы завладеть Лючией. Влюбленные решают бежать из родного села. Лючию прячут в стенах монастыря, а Ренцо отправляется в Милан. Один из головорезов дона Родриго узнает, где скрывается Лючия. В Милане вспыхивает эпидемия «черной смерти», и Ренцо оказывается в эпицентре. Кажется, что надежды на спасение нет. Но там, где жестокая судьба расставляет смертельные ловушки, только любовь способна найти путь к спасению…
УДК 821.131.1
©Hemiro Ltd, издание нарусском языке, 2020
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление,2020
Введение
«Воистину, история — это благородная борьба против времени, попытка вырвать из его когтей плененные им и уже умершие годы, чтобы затем оживить их, вернуть в стройи вновь отправить в битву. Однако бьющиеся на этом ристалище славные ратоборцы, окруженные почестями и увенчанные лаврами, вырывают из этих когтей лишь останки самых славных и знаменитых, бальзамируя своими чернилами деяния принцев, властителей и иных знатных особ, выводя тончайшей иглой своего разума вечный узор славных свершений, сотканный из золотых и шелковых нитей. Человеку же, столь слабому, как я, негоже обращаться к подобным вопросам, стремясь достичь столь опасных высот, углубляясь в лабиринты игр политиков и вслушиваясь в трубный глас, раздающийся над полями сражений. Я хочу лишь поведать об интересных событиях, приключившихся с людьми малыми да незнатными, сохранив о них память для потомков, хочу оставить честный и достоверный рассказ, а точнее — послание. Послание, которое станет театром горестных трагедий и ужасов, полным сцен немыслимого злодейства, перемежающихся с благочестивыми деяниями и ангельской добротой, что противостоят дьявольским козням. И воистину, зная, что в наших краях властвует король католический, который есть само никогда не заходящее солнце, зная, что их озаряет свет никогда не убывающей луны, в чьих лучах сверкает благородный герой, временно правящий вместо него, и что на благороднейшем небе сияют вечные звезды блистательнейших сенаторов и блуждающие планеты почтеннейших магистратов, можно прийти лишь к одному выводу: причиной того, что мир превращается в ад, полнящийся делами темными, злодейством и жестокостями дерзких людишек, являются происки дьявола, ведь одной лишь злонамеренности человеческой недостаточно для того, чтобы противостоять стольким героям со взором Аргуса и руками Бриарея1, старающимся во имя всеобщего блага. Посему, описывая события, произошедшие во времена моейзеленой юности, большинство героев которых уже покинули этот мир, став данниками парок2, я из уважения к ним остерегусь называть их родовые имена, равно как и места, в которых они жили, ограничившись лишь названиями территорий. И да не сочтет это критик несовершенством рассказа либо уродством моего скромного творения, ведь любой, кто сведущ в философии, поймет, что суть повествования от этого нисколько не пострадала, поскольку ни один человек не сможет отрицать очевидного факта, что имена являются чистой воды случайностью…
Однако, когда моя нетвердая рука допишет последнюю строку этой истории, завершив тем самым героический труд, найдется ли тот, кто захочет ее прочесть?»
Сомнение это, зародившееся в моей душе, когда я пытался разобрать слово, залитое чернилами, заставило меня прервать переписывание и всерьез задуматься о том, что мне надлежит сделать. «Ясно одно, — говорил я себе, листая рукопись, — нельзя превращать всю книгу в водоворот понятий и речевых фигур. Любой уважающий себя литератор XVII века, разумеется, прежде всего демонстрирует свое владение словом; однако затем его стиль становится более гладким и естественным. Да уж. Но как же это все заурядно! Как грубо! Как неграмотно! Бесчисленные ломбардские словечки, не к месту употребляемые фразы, грамматические ошибки, нескладность сложных предложений… Изящные испанизмы по поводу и без. Но, что еще хуже, даже в самых ужасных либо печальных местах повествования ты все время пытаешься изумить читателя или заставить его задуматься, как делаешь это в предисловии; да, эти места тоже требуют риторики, однако риторики умеренной, тонкой и изысканной. Да еще и умудряешься сочетать несочетаемое, соединяя на одной странице, в одной фразе и даже в одном слове грубость и жеманство. Чего стоят одни высокопарные декламации, испещренные низкопробными солецизмами3 и полные претенциозной аляповатости, столь типичной для произведений того века, написанных в наших краях. По правде говоря, негоже представлять подобное на суд сегодняшнего читателя: он слишком избалован, слишком отвык от столь причудливого стиля. Хорошо хоть, что эта здравая мысль пришла мне в голову в самом начале трудов над моим злосчастным детищем. Довольно! Я умываю руки».
Однако, закрывая тетрадь и собираясь ее отложить, я ощутил сожаление из-за того, что столь прекрасная история останется неизвестной; возможно, читатель посчитает иначе, однако мне она показалась воистину прекрасной. «Почему бы, — подумал я, — не взять факты из этой рукописи и не написать историю заново иным слогом?» Причин не поступить подобным образом не было, и вскоре я взялся за дело. Так и родилась эта книга, и история ее рождения столь же правдива, как и она сама.
Некоторые из фактов и обычаев, описанных нашим автором, показались нам столь странными и непривычными — или того хуже, — что мы, прежде чем поверить в них, обратились к иным свидетельствам. Нам пришлось погрузиться в воспоминания о тех временах, дабы убедиться, что тогдашняя жизнь действительно была такова. Все наши сомнения развеялись: на каждом шагу мы сталкивались с подобными, а то и более поразительными случаями; что еще более важно, нам довелось наткнуться на имена людей, в существовании которых мы сомневались, поскольку прежде эти имена не встречались нам нигде, кроме страниц нашего манускрипта. При случае мы будем ссылаться на эти свидетельства, чтобы читатель поверил в нашу историю, какой бы странной она ему ни казалась.
Однако чем мы заменим слог нашего автора, отвергнув его как невыносимый? Весь вопрос в этом.
Любой, кто без спросу переписывает труд другого, должен внимательно следить за своим стилем. На нем лежит своего рода обязательство, от которого мы не посмеем уклониться. Более того, дабы выполнить это обязательство наилучшим образом, мы решили четко обосновать выбранный нами слог; с этой целью, работая над книгой, мы все время стремились предугадать возможную критику, чтобы заранее ее избежать. Именно в этом и заключалась сложность, ведь, будем честны сами с собой, на любое приходившее нам в голову критическое замечание у нас уже был готов триумфальный ответ из тех, что не предлагают решение вопроса, а лишь меняют его. Нередко мы даже сталкивали два критических замечания друг с другом; в других случаях после внимательного изучения нам удавалось продемонстрировать, что эти замечания, несмотря на свою кажущуюся разницу, являлись, по сути, одним и тем же, поскольку были рождены невнимательностью и несоблюдением принципов, на которых должны основываться трезвые суждения; сопоставив их, мы, к собственному изумлению, отвергали оба этих замечания. На свете вряд ли сыщется еще один автор, столь придирчиво оценивавший свой собственный труд. Но что бы вы думали? Собрав воедино все возражения и ответы на них, дабы привести их хоть в какой-то порядок, мы поняли, что из них получится еще одна книга. Смилуйтесь! От написания этой книги нам пришлось отказаться по причинам, которые читатель, несомненно, сочтет разумными: во-первых, произведение, созданное с целью не просто оправдать другое, а оправдать выбранный в нем стиль, выглядело бы сущей нелепицей; во-вторых, одной книги для одного раза достаточно — если ее вообще стоило писать.
1Аргус — в древнегреческой мифологии многоглазый великан, получивший прозвище Всевидящий. Бриарей («могучий») — прозвище сторукого великана Эгеона. (Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.)
2Парки — три богини судьбы в древнеримской мифологии, которые отмеряли срок жизни человека.
3 Солецизм — синтаксически неправильный оборот речи, не искажающий смысла высказывания.
Глава I
Рукав озера Комо, тянущийся к югу между двумя непрерывными горными хребтами и образующий множество бухточек и заливов, в одном месте неожиданно сужается, принимая вид реки, текущей между мысом справа и широким побережьем слева. Соединяющий эти два берега мост делает сие преображение еще более заметным, знаменуя собой точку, в которой заканчивается озеро и начинается Адда, чтобы затем опять стать озером там, где берега вновь расходятся, образовывая новые заливы и новые бухточки. Побережье, образованное наносами трех мощных потоков, примыкает к двум смежным пикам, один из которых назван в честь святого Мартина, а второй именуется ломбардским словечком Резегоне, поскольку множество его вытянутых в ряд зубчатых вершин действительно напоминает своим видом пилу. Достаточно лишь взглянуть на него спереди — например, стоя на северной стене Милана, — и вы немедленно узнаете этот пик среди всех остальных гор длинного и обширного хребта, которые не могут похвастатьни столь необычным названием, ни столь приметной формой. Довольно долго побережье тянется вверх, образовывая пологие склоны, однако затем его начинают пересекать холмы и долины, кручи и плато — результат работы вод меж двух горных вершин. У самого края воды рассеченный устьями потоков берег практически повсеместно усыпан гравием и крупной галькой. Выше по нему тянутся поля и виноградники, среди которых то тут, то там виднеются деревушки, усадьбы,хутора, а кое-где — заходящие на склоны гор леса. Лекко, главное поселение этого края, в честь которого он и назван, расположено неподалеку от моста, на берегу озера, и оно в периоды половодий частично его затапливает. В наши дни это крупное местечко, обещающее вскорости стать полноценным городом. Во времена, о которых мы собираемся поведать, оно также было немаленьким, а возвышающийся над ним замок еще и имел честь служить резиденцией коменданта, благодаря чему в городке постоянно был расквартирован гарнизон испанских солдат, которые учили скромности местных девиц и женщин, задавая время от времени трепку чьему-нибудь мужу или отцу. В конце лета солдаты никогда не забывали отправиться на виноградники, чтобы обобрать их, облегчив тем самым труд крестьян.
От одной деревушки к другой, от холмов к берегу бежали и бегут до сих пор дороги и тропинки, крутые и не очень, а то и совсем ровные. Тот тут, то там они оказываются зажаты меж двумя скалами, где, подняв глаза, можно увидеть лишь клочок неба да их вершины, после чего вновь выходят на открытое пространство, откуда неизменно открывается прекрасный вид на окружающую местность; всякий раз такой пейзаж чем-то не похож на предыдущий, являя взору и скрывая от него все новые и новые картины. То одно, то другое, то бескрайняя и такая разная водная гладь; иногда край озера обступают горы, среди лабиринта которых оно порой и вовсе теряется, а затем вновь открывается взгляду среди других гор, отражая в своих водах их и стоящие на берегах деревушки. Речной рукав, озеро, вновь река, сверкающей змейкой скрывающаяся среди гор, которые, постепенно понижаясь, тоже исчезают на горизонте... Живописным является даже то место, откуда вы созерцаете этот пейзаж: гора, с которой вы спускаетесь, окружает вас своими вершинами и обрывами, каждый раз выглядящими по-новому и меняющимися почти на каждом шагу, то расступаясь, то смыкаясь в сплошные горные кряжи и превращая склоны в вершины. Ласкающая взор гостеприимность этих склонов приятно смягчает дикость пейзажа, делая его еще более красивым.
По одной из этих дорог вечером 7 ноября 1628 года неспешно возвращался с прогулки дон Аббондио, служивший священником в одной из вышеупомянутых деревень. Ни ее название, ни фамилия самого персонажа в манускрипте нигде не указаны. Спокойно шепча молитвы и псалмы, священник время от времени закрывал требник, закладывая между страницами указательный палец правой руки, и, убрав ее за спину, продолжал свой путь, опустив взгляд и отбрасывая к ограде попадавшиеся под ноги камешки. Затем, поднимая глаза, дон Аббондио лениво оглядывался и устремлял взор на гору, чьи склоны то тут, то там заливал багряный свет уже закатившегося за противоположную гору солнца, чьи лучи прорывались сквозь ее расщелины. Вновь открыв требник и прочтя еще один отрывок, священник достиг поворота дороги, где он обычно отрывал взгляд от книги, чтобы посмотреть вперед. Вот и сегодня дон Аббондио поступил так же. Свернув, дорога шагов шестьдесят тянулась прямо, после чего разветвлялась на две тропинки, образовывая подобие греческой буквы ипсилон. Правая тропинка поднималась в гору, ведя к дому священника; левая, уходя вниз, тянулась через долину к самой воде. В этом месте ограда не доходила прохожему даже до пояса. Разделявшие тропинки внутренние ограды, вместо того чтобы сомкнуться под углом, упирались в часовенку, на которой были изображены длинные, заостренные кверху змееподобные фигуры, которые, согласно замыслу художника и представлениям местных жителей, должны были означать пламя. Это пламя чередовалось с другими фигурами, чью форму нельзя было выразить словами и коим надлежало знаменовать собой души в чистилище. Пламя и души были цвета кирпича на темно-сером фоне, но краска, впрочем, уженачинала отслаиваться. Повернув и бросив по привычке взглядначасовню, священник увидел нечто, чего не ожидал и уж никак не хотел увидеть.
Двое мужчин расположились друг напротив друга в, если можно так выразиться, месте слияния двух тропинок: один из них сидел на низкой ограде, свесив ноги с двух сторон; его товарищ стоял, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. Их одежда, манера держаться и выражения лиц — насколько их можно было разглядеть оттуда, где стоял священник, — не оставляли сомнений относительно того, кем являлись эти двое. На головах у обоих были зеленые сеточки, спадавшие на левое плечо и заканчивавшиеся большими кисточками, из-под которых выглядывали буйные чубы; их лица украшали длинные, лихо закрученные усы; оба носили пояса из блестящей кожи с висевшей на них парой пистолетов; на груди у каждого из незнакомцев подобно ожерельям красовались небольшие пороховницы; из карманов их широких штанов торчали рукоятки ножей; каждый был при начищенной до блеска широкой сабле с причудливого вида ажурным эфесом из латуни; словом, одного взгляда на этих двоих было достаточно, чтобы понять: они принадлежат к породе людей, которых принято называть «брави».
Эта порода, в наши дни исчезнувшая без следа, в те времена встречалась в Ломбардии очень часто, процветая там на протяжении многих лет. Для тех, кто не имеет о ней ни малейшего понятия, мы приведем несколько подлинных отрывков, которые позволят составить представление о том, что это были за люди, как их пытались изничтожить и какую живучесть они проявляли.
Восьмого апреля 1583 года сиятельнейший и превосходительнейший синьор дон Карло Арагонский, князь Кастельветрано, герцог Террановы, маркиз Аволы, граф Буржето, великий адмирал и великий коннетабль Сицилии, губернатор Милана и капитан-генерал его католического величества в Италии, прознав о том, сколь невыносимой стала жизнь в городе Милане из-за брави и прочих бродяг, издал против них указ. Согласно этому указу, брави и бродягами объявлялись все пришлые и местные, кто не имел определенного занятия либо, имея его, предавался праздности, но, безвозмездно или даже за жалованье, состоял при знатной особе, должностном лице или купце, служа ему опорой и оказывая услуги, либо, что вероятнее, строя козни другим. Таким людям надлежало в шестидневный срок избавить указанную местность от своего присутствия. Не подчинившимся грозила каторга, а всем судебным чинам предоставлялись неограниченные полномочия для исполнения данного указа.
Однако 12 апреля следующего года упомянутому синьору стало известно, что названный город по-прежнему полон так называемых брави, живущих привычной жизнью, нисколько не изменивших своих нравов и ничуть не уменьшившихся в числе, и он издал другой, еще более суровый и ясный указ, согласнокоторому, в частности, любое лицо, как местное, так и пришлое, признанное двумя свидетелями за браво, пусть даже не совершившее никакого преступления, может быть отдано любым судьей на основании одной лишь своей репутации для допроса под пыткой и, даже не признавшись в преступлении, отправлено на трехлетнюю каторгу за одну лишь эту репутацию и именование браво. Целью всего этого, равно как и опущенных пассажей, было продемонстрировать серьезность намерений его превосходительства добиться повиновения от всякого.
Очень хотелось бы верить, что одних лишь слов подобного синьора, столь смелых, уверенных и сопровождаемых такими приказами, хватило для того, чтобы все брави исчезли раз и навсегда. Однако свидетельства другого синьора, не менее авторитетного и знатного, вынуждают нас поверить в обратное.
Синьор сей — сиятельнейший и превосходительнейший Хуан Фернандес де Веласко, коннетабль Кастилии, старший камергер его величества, герцог Фриасский, граф Аро и Кастельново, синьор дома Веласко и дома Семерых инфантов Лары, губернатор государства Миланского и прочая. Пятого июня 1593 года, также прознав о том, какой ущерб причиняют брави с прочими бродягами и какое разорение сеют, нанося огромный вред общественному благосостоянию, и разочаровавшись в правосудии, его превосходительство издал новый указ, согласно которому подобным людям надлежало в шестидневный срок покинуть территорию государства; тем самым он повторил предписания и угрозы своего предшественника. Двадцать третьего мая 1598 года с немалой болью в сердце синьор Фернандес де Веласко узнал, что личности сии (брави и прочие бродяги) расплодились в граде и государстве пуще прежнего, учиняя засады, причиняя ранения, совершая смертоубийства, грабя, бесчинствуя всеми прочими способами и избегая за это ответственности благодаря помощи своих главарей и пособников, и вновь предписал те же средства, увеличив дозу, как поступают при борьбе с особо упорной хворью. Теперь каждый, осмелившийся нарушить любой пункт указа, рисковал лишиться милости его превосходительства, ощутив на себе его строгость и гнев, ведь его превосходительство со всей решимостью заявлял, что сие предупреждение является последним и окончательным.
Однако сиятельнейший и превосходительнейший синьор дон Пьетро Энрикес де Асеведо, граф Фуэнтес, капитан и губернатор государства Миланского, этого мнения не разделял, и у него были на то серьезные причины. Прознав о невыносимой жизни, которой жили град и государство по вине огромного числа брави, его превосходительство принял решение полностью искоренить сей зловредный сорняк и 5 декабря 1600 года издал новый указ, который также сулил суровые кары, которые должны были исполняться по всей строгости и без проявления какого бы то ни было снисхождения.
Впрочем, есть основания полагать, что борьба с брави интересовала синьора Энрикеса в гораздо меньшей мере, чем плетение интриг и науськивание врагов на своего великого недруга Генриха IV. История свидетельствует, что ему удалось вооружить против сего короля герцога Савойского, который в результате этого утратил несколько городов, равно как и сговориться с герцогом Бироном, которому это стоило головы.
Что же касается вредоносных брави, то на 22 сентября 1612 года они явно продолжали процветать. В этот день сиятельнейший и превосходительнейший синьор дон Джованни де Мендоса, маркиз де ла Инохоса, кавалер и прочая, губернатор и прочая, всерьез вознамерился их искоренить. С этой целью он приказал королевским придворным печатникам, Пандольфо и Марко Туллио Малатести, издать указ о полном изничтожении брави. Однако тем вновь удалось выжить, и 24 декабря 1618 года на них обрушились такие же и еще более сильные удары со стороны сиятельнейшего и превосходительнейшего синьора дона Гомеса Суареса де Фигероа, герцога Ферийского и прочая, губернатора и прочая. Но даже это не ознаменовало их конец, так что сиятельнейший и превосходительнейший синьор Гонсало Фернандес до Кордова, в чье правление и случилась прогулка дона Аббондио, был вынужден подновить и вновь обнародовать привычный указ, направленный против брави; произошло сие 5 октября 1627 года, то есть за год, месяц и два дня до этого памятного события.
Но и этот указ не был последним; однако мы полагаем, что о последующих упоминать смысла не имеет, поскольку они были изданы уже после того периода, в который разворачивается наша история. Назовем лишь указ от 13 февраля 1632 года превосходительнейшего синьора герцога Ферийского, во второй раз ставшего губернатором, на основании которого можно сделать вывод, что те, кто называли себя брави, продолжали творить возмутительные злодеяния. Одного этого достаточно для того, чтобы понять: во времена, о которых мы хотим поведать, брави были повсюду.
То, что упомянутые двое кого-то поджидали, не вызывало сомнений; однако еще неприятнее дону Аббондио было осознавать, что этим человеком был он сам, ведь стоило ему появиться, как незнакомцы переглянулись и подняли головы с видом людей, дождавшихся того, кого караулили. Тот, что сидел на ограде, перекинул ногу и спрыгнул на тропинку; другой, отделившись от стены, вместе с ним двинулся навстречу священнику. Дон Аббондио, притворяясь, что читает требник, осторожно следил за их движениями. При виде того, что незнакомцы идут прямо к нему, в разум священника ворвалась тысяча мыслей разом. Он задался вопросом, нет ли справа или слева какой-нибудь боковой дорожки, по которой можно было бы скрыться от брави, сразу, впрочем, поняв, что ее нет. Затем дон Аббондио попытался вспомнить, не разозлил ли кого-нибудь могущественного и мстительного; однако даже в столь тревожных обстоятельствах мысль о том, что его совесть чиста, успокоила священника.
И все же брави продолжали приближаться к нему, не отрывая от него взглядов. Дон Аббондио запустил указательный и средний пальцы левой руки за воротник так, словно хотел его поправить, и, проведя ими вдоль шеи, повернул голову, скривив губы и глядя уголком глаза, не идет ли сзади кто-нибудь еще. Однако никого не было. Священник покосился на раскинувшееся за оградой поле. Никого. Он украдкой посмотрел на тропинку впереди. Лишь брави. Что же делать? Поворачивать назад было уже поздно. Пуститься в бегство означало бы сказать «догоните меня», а то и еще что похуже. Потому, не имея возможности избежать опасности, дон Аббондио ринулся ей навстречу, поскольку состояние неизвестности было для него столь мучительным, что он решил как можно скорее положить ему конец. Ускорив шаг, он погромче прочел один стих и, попытавшись сделать выражение своего лица как можно более спокойным и веселым, приготовился улыбнуться, каких бы усилий ему это не стоило. Очутившись с молодчиками лицом к лицу и мысленно сказав себе: «Вот и попался», священник остановился как вкопанный.
— Синьор священник, — произнес один из незнакомцев, глядя ему прямо в лицо.
— Чего угодно? — спешно ответил дон Аббондио, оторвав глаза от книги, держа ее так, словно его руки были пюпитром.
— Вы намереваетесь… — заговорил второй в презрительной манере человека, поймавшего подчиненного на злоупотреблении властью. — Намереваетесь завтра поженить Ренцо Трамальино и Лючию Монделлу!
— Все дело в том… — ответил дон Аббондио дрожащим голосом. — Все дело в том, что вы, синьоры, подобно любому другому, прекрасно знаете, как делаются такие дела. Бедный священник тут совершенно ни при чем; люди пекут свои пироги сами, а затем… а затем идут к нам как в банк за деньгами; а мы… мы всего лишь служим общине.
— В общем, — сказал ему браво на ухо торжественным и не терпящим возражений шепотом, — этот брак не должен состояться — ни завтра, ни когда бы то ни было.
— Но, синьоры мои… — отозвался дон Аббондио кротким и мягким тоном человека, желающего переубедить кого-то очень нетерпеливого. — Но, синьоры мои, попробуйте поставить себя на мое место. Если бы дело зависело от меня… Вы ведь отлично понимаете, что у меня в этом деле никакого шкурного интереса нет…
— Полноте, — прервал его браво. — Если бы все решала болтовня, у нас против вас не было бы ни шанса. Мы больше ничего не знаем и знать не хотим. Мы вас предупредили… а вы нас поняли.
— Но вы ведь, синьоры, люди слишком справедливые и разумные…
— И все же… — перебил его другой молодчик, до сего момента молчавший. — И все же этот брак не состоится, или… — Он крепко выругался. — Или же тот, кто совершит венчание, даже пожалеть об этом не успеет…
За этими словами последовало еще одно ругательство.
— Тише, тише, — вновь заговорил первый. — Синьор священник знает, как в мире все устроено, а мы люди благородные, не желающие причинять ему зла — в случае, если он будет благоразумен. Синьор священник, сиятельнейший синьор дон Родриго, наш хозяин, глубоко вас чтит.
Для дона Аббондио это имя было подобно молнии во время внезапно налетевшей ночной бури, чья ослепительная вспышка лишь усиливает ужас. Сам того не желая, священник низко поклонился и произнес:
— Если бы вы просто намекнули…
— О! Намекать знатоку латыни! — опять прервал дона Аббондио браво, грубо и в то же время как-то зловеще расхохотавшись. — В общем, дело ваше. Главное — ни слова об этом разговоре, ведь мы предупредили вас исключительно ради вашего же блага, а иначе… — Он хмыкнул. — А иначе это будет равносильно тому, что случится, если вы совершите это венчание. Впрочем, довольно. Что нам передать от вашего имени сиятельнейшему синьору дону Родриго?
— Мое почтение…
— А поточнее?
— Мою готовность в любой момент ему повиноваться.
Произнося эти слова, священник сам не знал, чем они являлись — обещанием или же просто данью вежливости. Однако брави приняли их совершенно серьезно — или сделали вид, что принимают.
— Чудесно, и доброй ночи, — сказал один из них.
Вместе с товарищем они начали удаляться. Но дон Аббондио, который еще несколько мгновений назад готов был расстаться с глазом, лишь бы избавиться от общества этих незнакомцев, теперь хотел продолжить разговор.
— Синьоры… — начал он, закрывая книгу обеими руками.
Однако брави, не обращая на него никакого внимания, двинулись в том направлении, откуда дон Аббондио пришел, напевая песенку столь похабную, что я даже не желаю ее здесь приводить. Бедный священник некоторое время стоял с открытым ртом подобно зачарованному; затем он свернул на тропинку, которая вела к его дому, едва волоча одеревеневшие ноги. Чтобы понять, что он чувствовал, следует рассказать кое-что о его характере и об эпохе, в которую ему довелось жить.
Дон Аббондио (как читатель уже догадался) не был рожден с сердцем льва. Однако в первые же годы своей жизни он волей-неволей понял, что хуже всего в те времена было оказаться в положении зверя без когтей и клыков, также осознав, что ему совсем не хочется быть проглоченным. Закон никоим образом не защищал спокойных и безобидных людей, у которых не было иных способов навести страх на других.
И дело было не в нехватке законов, защищавших от насилия со стороны отдельных лиц. Законов насчитывалось множество, и преступления в них подробно перечислялись и тщательно описывались. Наказания, и так до безумия чрезмерные, могли становиться еще суровее по решению законодателя и сотни исполнителей; судопроизводство было направлено лишь на то, чтобы полностью развязать судье руки в вопросе вынесения обвинительного приговора: приведенные нами отрывки из указов, нацеленных против брави, несмотря на свою краткость, являются отличным тому примером. И все же, несмотря на это, указы сии, вновь и вновь издаваемые одним правительством за другим и с каждым разом становившиеся все более суровыми, неизменно оказывались лишь велеречивыми свидетельствами бессилия своих авторов. В тех же случаях, когда они достигали какого-то немедленного эффекта, этот эффект заключался лишь в еще большем угнетении мирных да слабых, и без того страдавших от смутьянов, которые, в свою очередь, становились еще более жестокими и изворотливыми. Их безнаказанность была хорошо организована и зиждилась на том, что указы не могли или не хотели искоренить: на праве предоставлять убежище и привилегиях некоторых классов, частично признанных законом, частично терпимых с завистливым молчанием либо впустую оспариваемых, однако фактически ревностно поддерживаемых этими классами. В указах эта безнаказанность порицалась и осыпалась угрозами, однако они не могли ее искоренить, ведь порицания и угрозы сии, разумеется, заставляли ее прикладывать новые усилия к своему сохранению и пускаться ради него на все новые ухищрения.
Вот так все и происходило: при появлении указов, направленных на искоренение негодяев, те, опираясь на свою реальную силу, искали все новые и новые способы продолжать делать то, что сии указы запрещали. Указам хорошо удавалось на каждом шагу мешать и досаждать людям благонамеренным, слабым и незащищенным, ведь стремление держать в своих руках каждого, дабы предотвратить любое преступление, приводило к произволу со стороны всевозможных исполнителей. Те же, кто заблаговременно принимал меры к тому, чтобы обеспечить себе убежище в монастыре либо чьем-нибудь дворце, где стражи порядка показываться не рисковали, либо просто носил ливреи, провозглашавшие их защитниками интересов могущественного рода или целого сословия, были полностью свободны в своих действиях и могли в открытую смеяться над злополучными указами. Да и среди людей, которым следовало исполнять эти указы, некоторые по рождению принадлежали к привилегированным классам, а иные были их клиентами; и те, и другие, в силу образования, шкурных интересов, привычки либо подражания, жили согласно бытовавшим устоям и не стали бы их нарушать ради клочка бумаги на углу.
Те же из непосредственных исполнителей, кто обладал решимостью героев, покорностью монахов и жертвенностью мучеников, все равно не могли довести дело до конца, поскольку их было меньше, чем людей, которых им надлежало усмирить. Вдобавок те, от имени кого они, если можно так выразиться, в теории действовали, могли бросить их на произвол судьбы в любой момент. В довершение всего большинство из них принадлежало к числу самых гнусных и бесчестных людей своего времени; те, кому следовало их бояться, презирали их; само их имя было бранным словом. Потому вполне естественно, что, вместо того чтобы рисковать, ставя на карту свою жизнь в безнадежном предприятии, они продавали сильным мира сего свое бездействие или даже попустительство, пользуясь своей мерзостной властью лишь в тех случаях, когда это не представляло для них угрозы, угнетая и изводя людей мирных и беззащитных.
Человек, который хочет причинить кому-то вред или все время боится, что вред причинят ему, разумеется, ищет союзников и товарищей. Отсюда и особенно процветавшая в те времена тенденция людей становиться частью существующих классов или создавать новые, всеми способами стараясь добиться их усиления. Духовенство заботилось о поддержании и расширении своей неприкасаемости, знать — своих привилегий, военные — своих полномочий. Торговцы и ремесленники объединялись в цеха и братства, юристы — в лиги, врачи — в гильдии. Каждая из этих маленьких олигархий была сильна по-своему; в каждой из них ее член, в зависимости от своего влияния и умений, получал возможность использовать силу многих в личных интересах. Наиболее честные пользовались этим преимуществом лишь в целях защиты; хитрые и беспринципные им злоупотребляли, дабы достигать того, чего не могли добиться своими собственными силами, оставаясь при этом безнаказанными. Впрочем, влияние этого множества лиг очень разнилось. Особенно явственно сие ощущалось в сельской местности: богатый и жестокий дворянин, окруженный ватагой брави и ко всему привычными крестьянами, которые были заинтересованы или вынуждены относиться к нему как подданные или солдаты, обладал такой властью, что ей с огромным трудом могло сопротивляться любое другое объединение в данной местности.
Наш дон Аббондио, не бывший ни знатным, ни богатым, ни тем более смелым, едва вступив в сознательный возраст, понял, что в таком обществе он подобен глиняному горшку, путешествующему в компании железных. И потому он весьма охотно послушался родителей, желавших, чтобы сын стал священником. По правде говоря, он не слишком задумывался об обязанностях и благородных целях служения, которому себя посвящал. Ему хотелось лишь жить сытой жизнью и принадлежать к уважаемому и сильному классу — две причины, показавшиеся юному Аббондио вполне достаточными, чтобы сделать подобный выбор.
Однако любой класс защищает человека лишь до определенного предела, не избавляя его в полной мере от необходимости выработать собственную систему защиты. Вечно поглощенный мыслями о своем спокойствии, дон Аббондио никогда не стремился к преимуществам, для получения которых требовалось прилагать большие усилия или идти на некоторый риск. Его система заключалась в том, чтобы избегать любых конфликтов и уступать в тех из них, которых невозможно было избежать. Он придерживался безоружного нейтралитета во всех вспыхивавших вокруг него войнах, начиная со столь обычных в те времена распрей между духовенством и светскими властями, конфликтов между военными и гражданскими, раздоров между дворянами и заканчивая перебранками между крестьянами, переросшими в драку или поножовщину. В случаях, когда ему все же приходилось выбирать сторону, дон Аббондио поддерживал более сильного, всегда, впрочем, делая это с оглядкой, стараясь показать другому, что не желает быть его врагом, и словно бы говоря: «Почему вы не оказались более сильным? Я бы тогда был на вашей стороне». Держась подальше от самодуров, закрывая глаза на те притеснения с их стороны, что были мимолетными и вызванными капризом, покорно снося более серьезные и продуманные и умея поклоном да почтительно-сердечными манерами вызывать улыбку на лицах даже самых угрюмых и вздорных, бедолага сумел разменять седьмой десяток, не пережив особых потрясений.
Нельзя, впрочем, сказать, что подобное положение вещей дона Аббондио совсем не удручало. Постоянное терпение, вечные уступки другим, молчаливое проглатывание многочисленных обид — все это раздражало его до такой степени, что, если бы он время от времени не давал выхода своим чувствам, его здоровье неминуемо пострадало бы. Порой он срывался на людей, которых знал как безобидных, покрикивая на них безо всякой причины. Еще дон Аббондио сурово критиковал тех, кто не умел, подобно ему, держать себя в узде, однако лишь в тех случаях, когда это не представляло ни малейшей угрозы. Потерпевший в его глазах всегда был по меньшей мере неосторожным; убитый неизменно оказывался смутьяном. За теми, кому доставалось за попытку отстаивать свою правоту в споре с сильным, дон Аббондио всегда умел усмотреть какую-нибудь вину; это было несложно, ведь правота и неправота никогда не бывают разделены четкой гранью.
Особенно резко он высказывался против тех своих собратьев, кто становился на сторону слабого в борьбе с могущественным притеснителем. Дон Аббондио называл это покупкой себе хлопот за свои же собственные деньги и желанием выпрямить ноги собаке; также он безапелляционно заявлял, что священнослужителю негоже вмешиваться в мирские дела. Корил он таких людей, впрочем, всегда лишь с глазу на глаз либо в очень узком кругу, и тем большим был его пыл, чем менее они были склонны возражать. Подобные речи дон Аббондио неизменно завершал словами о том, что с порядочным человеком, который не лезет в чужие дела и знает свое место, ничего плохого никогда не случится.
Полагаю, теперь мои немногочисленные читатели могут себе представить, какие чувства у бедолаги вызвало произошедшее. Внешний вид незнакомцев и изрыгаемая ими брань, равно как и угрозы синьора, который был известен тем, что не сыпал ими впустую, а также осознание того, что его спокойная жизнь закончилась в один момент и что он ничего не может с этим поделать, наполнили понуренную голову дона Аббондио целым роем мыслей. «Если бы только можно было отправить Ренцо восвояси, решительно сказав ему “нет”, — думал священник. — Однако он потребует объяснений. И что мне ответить ему, во имя небес? У него-то ведь тоже есть голова на плечах. Пока его не трогают, он — чистый ягненок, но если кто-то вздумает ему перечить… Эх! А он еще и потерял голову из-за этой Лючии, влюбившись как… Не зная, чем еще заняться, мальчишки влюбляются и хотят жениться, не думая больше ни о чем другом; им и в голову не приходит поразмыслить о том, какие беды они навлекают своими действиями на голову бедного честнейшего человека. О горе мне! Ну почему этим двум страшилищам нужно было появиться на моем пути и прицепиться ко мне?! Я-то тут при чем? Это что, я собрался жениться? Почему вместо этого они не пошли поговорить с… Но увы, судьба моя — быть крепким задним умом. Если бы только я додумался предложить им отправиться со своим сообщением к…»
Однако в этот момент дон Аббондио сообразил, что сожалеть о том, что не стал советчиком и соучастником в неправом деле, было бы совсем уж низко, и обратил всю свою мысленную досаду на того, кто лишил его покоя. Он знал дона Родриго лишь в лицо да по рассказам о его деяниях и не имел с ним никаких дел, лишь низко кланяясь ему при встрече. Впрочем, ему не раз приходилось защищать доброе имя этого синьора в разговорах с теми, кто шепотом, вздыхая и воздевая очи горе, клял какой-нибудь его поступок; дон Аббондио сто раз говорил, что он — вполне уважаемый господин. Однако в тот момент священник мысленно называл дона Родриго такими словами, которыми не позволял в своем присутствии называть его никому другому. Поглощенный этими тревожными мыслями, он дошел до двери своего дома, стоявшего на краю деревушки, и, спешно вставив в замочную скважину ключ, который уже держал в руке, открыл дверь, а войдя внутрь, тут же закрыл за собой. Страстно желая оказаться в обществе кого-то, кому можно доверять, дон Аббондио немедленно крикнул:
— Перпетуя! Перпетуя!
Он направился в гостиную, где Перпетуя уже должна была накрывать стол к ужину. Перпетуя, как все догадались, была служанкой дона Аббондио, служанкой верной и преданной, умевшей и подчиняться, и командовать, которая и сносила ворчание и причуды своего хозяина, и заставляла его сносить свои собственные. А тех с каждым днем становилось все больше, поскольку она уже достигла синодального возраста сорока лет, оставшись незамужней по причине, как уверяла она сама, отказа от всех сделанных ей предложений или, как говорили ее подруги, неспособности найти пса, который захотел бы на ней жениться.
— Иду, — отозвалась Перпетуя, поставив на столик в обычном месте бутылочку любимого вина дона Аббондио, и медленно двинулась к двери.
Однако не успела она дойти до порога, как дон Аббондио сам ввалился в гостиную, двигаясь так неуклюже, со взглядом столь мрачным и лицом настолько перекошенным, что не нужно было обладать наметанным глазом Перпетуи, чтобы понять: случилось нечто воистину из ряда вон выходящее.
— Господи помилуй! Что с вами, синьор хозяин?
— Ничего, ничего, — ответил дон Аббондио.
Тяжело дыша, он опустился в свое кресло.
— Да как же «ничего»? Уж меня-то не обманывайте! Вы выглядите просто ужасно! Не иначе как стряслось что-нибудь серьезное.
— О, во имя небес! Когда я говорю «ничего», это либо значит, что действительно ничего не произошло, либо случилось нечто такое, о чем я не могу сказать.
— Не можете сказать даже мне? А кто ж тогда позаботится о вашем здоровье? Кто даст совет?..
— О горе мне! Замолчите уже! Просто налейте мне бокал вина.
— И вы еще говорите, что с вами ничего не произошло! — ответила Перпетуя, наполняя бокал, но не торопясь вручить его дону Аббондио, словно она не собиралась отдавать вино до тех пор, пока священник не поведает ей тайну, которую служанка так хотела узнать.
— Дайте же, дайте же его сюда, — сказал дон Аббондио, нетвердой рукой выхватывая у нее бокал и опорожняя его столь спешно, словно в нем было лекарство.
— Значит, вы хотите, чтобы я повсюду бродила, расспрашивая, что случилось с моим хозяином? — спросила Перпетуя, встав прямо перед ним и уперев руки в бока.
Она смотрела священнику в глаза столь пристально, словно хотела прочесть в них его секрет.
— Во имя небес! Не разводите сплетен и не поднимайте шум; это вопрос… это вопрос жизни!
— Жизни!
— Жизни.
— Вы же знаете, что от меня ваши тайны ни разу…
— Вот уж неправда! Достаточно вспомнить случай, когда…
Перпетуя поняла, что задела не ту струну; потому, заговорив вновь, она сменила тон.
— Хозяин, — произнесла служанка сочувственно-жалобным тоном, — я ведь всегда была к вам привязана и теперь хочу обо всем узнать лишь из заботы, чтобы суметь вам помочь, дать совет и ободрить вас…
По правде говоря, дон Аббондио хотел облегчить душу не меньше, чем Перпетуя желала узнать его тайну. Поэтому, сопротивляясь ее напору со все меньшей и меньшей охотой и заставив ее несколько раз поклясться, что она никому не скажет ни слова, священник наконец, то замолкая, то прерывая свою речь горестными восклицаниями, поведал служанке о злосчастном происшествии. Когда дело дошло до внушавшего ужас имени человека, пославшего брави, он вновь заставил Перпетую поклясться молчать еще более торжественной клятвой. Произнеся это имя, дон Аббондио тяжело откинулся на спинку кресла и, с шумом вздохнув, воздел руки в одновременно повелительном и умоляющем жесте:
— Во имя небес!
— О господи! — воскликнула Перпетуя. — Ох, что за негодяй! Что за угнетатель! Нет у него страха Божьего!
— Так вы будете молчать? Или разрушите мою жизнь?
— Ох! Мы здесь одни, и никто нас не слышит. Но что же вы будете делать, бедный синьор хозяин?
— Вот видите? — произнес дон Аббондио сварливо. — Где же ваши советы? Вы сами спрашиваете у меня, что я буду делать, как будто это вы попали впросак, а мне нужно вас выручать.
— Да почему же? Я бы дала вам свой скромный совет, вот только…
— Ну так послушаем его.
— Мой совет был бы в том, что, поскольку все говорят, что наш архиепископ — человек святой, влиятельный и никого на этом свете не боящийся, который всегда рад преподать урок какому-нибудь самодуру и поддержать священника, я бы сказала вам написать ему письмецо, в котором вы поведали бы ему, что да как…
— Уж правда лучше молчали бы! Такие, значит, советы вы даете несчастному? Архиепископ что, оживит меня, если мне всадят пулю в спину?
— Да ладно вам! Выстрелами-то почем зря как конфетти не сыплют. Не всякий пес кусает, который лает! К тому же я давно приметила, что уважают тех, кто умеет показать зубы и заставить себя уважать. Именно оттого, что вы никогда не хотите стоять на своем, мы и докатились до того, что, с позволения сказать, любой…
— Да замолчите же!
— Так я и замолкаю. Однако ясное дело, что когда весь мир видит кого-то, кто готов по любому поводу спустить…
— Вы замолчите или нет? Время ль сейчас нести такие глупости?
— Да будет вам! Утро вечера мудренее. Однако не нужно вредить самому себе и рушить здоровье. Съешьте хоть что-нибудь.
— У меня и сейчас голова ясная, — проворчал в ответ дон Аббондио. — Совершенно. Я мыслю вполне здраво, а пищи для размышлений у меня предостаточно. — Он встал. — Потому есть я не хочу. Не до того мне сейчас, ведь, как теперь ясно, выкручиваться мне придется самому. Эх! Надо же такому было приключиться именно со мной!
— Выпили бы еще хотя бы капельку, — сказала Перпетуя, наливая еще вина. — Сами знаете, что это всегда помогает вашему желудку.
— Эх! Не до того мне, не до того. — Взяв светильник, дон Аббондио заворчал: — Хорошенькое дело! И с таким благородным человеком, как я! И то ли еще будет!
Продолжая стенать в таком духе, он двинулся к спальне, однако, дойдя до порога, обернулся и, приложив палец к губам, медленно и торжественно произнес:
— Во имя небес!
С этими словами дон Аббондио скрылся.
Глава II
Говорят, накануне битвы при Рокруа4принц Конде проспал всю ночь. Однако дело было прежде всего в том, что он очень устал; к тому же принц уже успел отдать все необходимые распоряжения о том, что следовало сделать утром. А вот дону Аббондио известно было лишь то, что завтра должна была состояться битва, поэтому большая часть ночи прошла в исполненных тревогой размышлениях. Совершить венчание, не обращая внимания ни на гнусные требования, ни на угрозы, — о таком он не хотел даже думать. Поведать о произошедшем Ренцо означало бы попытаться найти выход вместе с ним… Боже упаси! «Ни слова… а иначе…» — сказал один из брави, многозначительно хмыкнув, и, вспомнив это хмыканье, дон Аббондио пожалел даже о своем разговоре с Перпетуей. О том, чтобы ослушаться приказа, он не мог даже помыслить. Бежать? Куда? А даже если он сбежит — то что дальше? Столько хлопот! Столько всего нужно будет объяснить!
Бедолага ворочался в постели, отвергая одно решение за другим. Лучшим выходом — или, по крайней мере, наименьшим из зол — ему казалось водить Ренцо за нос, пытаясь выиграть время. Священник вспомнил, что всего через несколько дней наступит период, когда венчаться будет запрещено. «Если получится заставить паренька промешкать эти дни, — думал он, — то потом я смогу два месяца жить спокойно, а за два месяца случиться может всякое». Дон Аббондио старался придумать подходящий предлог; все, что приходило ему в голову, казалось священнику притянутым за уши, однако он успокаивал себя мыслью о том, что его положение и опыт позволят ему убедить невежественного юношу. «Посмотрим, — говорил дон Аббондио себе. — Он думает о невесте. Я же думаю о своей шкуре. Я более заинтересован и более прозорлив. Если ты так охвачен любовным жаром, дорогой сынок, — твое дело, но вот я встревать в это не хочу». Немного успокоив себя подобными мыслями, священник смог наконец уснуть.
Однако спал он плохо. Что за сны ему снились! Брави, дон Родриго, Ренцо, узкие улочки, скалы, бегство, преследование, крики, выстрелы... Просыпаться на следующий день после случившегося несчастья, возвращаясь к положению, в котором ты оказался, — дело не из приятных. Пробудившись, разум первым делом обращается к привычным мыслям о спокойной жизни, которой ты жил до этого, однако вскоре в них грубо врывается осознание произошедшего, и горечь становится еще сильнее, чем в тот момент, когда несчастье тебя настигло.
Ощутив эту мучительную горечь, дон Аббондио спешно припомнил все свои ночные измышления, убедил себя, что они хороши, и, приведя мысли в порядок, встал и принялся дожидаться Ренцо, чувствуя одновременно страх и нетерпение. Лоренцо или, как все его называли, Ренцо, долго ждать не пришлось. Едва юноше показалось, что настал подходящий час для визита к священнику, он влетел в дом к дону Аббондио, исполненный радостного пыла, который любой двадцатилетний испытывает в день, когда должен жениться на своей любимой. Оставшись без родителей еще подростком, он, так сказать, продолжил семейную традицию, став прядильщиком шелка; прибыльная в прошлом, эта профессия уже приходила в упадок, однако умелый работник все еще мог заработать себе этим ремеслом на достойную жизнь. С каждым днем работы становилось все меньше, однако прядильщики разъезжались в соседние государства, привлеченные обещаниями лучшей жизни и щедрого жалованья, так что те, кто оставался, без дела не сидели. Вдобавок у Ренцо был клочок земли, который он сдавал для возделывания другим и возделывал сам, когда прялка стояла без дела; для человека его положения юношу даже можно было назвать зажиточным. Нынешний год выдался еще менее урожайным, чем предыдущие, и люди уже начинали голодать, однако наш молодой человек, стоило ему положить глаз на Лючию, сделался рачительным хозяином, у которого всегда хватало еды. Перед доном Аббондио он предстал, нарядившись весьма пышно. На голове у юноши красовалась шляпа с разноцветными перьями, а из кармана штанов торчала красивая рукоять кинжала. Он выглядел празднично и в то же время дерзко — впрочем, в ту эпоху это было типично даже для людей, обладавших спокойным нравом. Неуверенность и таинственность дона Аббондио представляли разительный контраст с живостью и решимостью паренька.
«Видать, о чем-то задумался», — сказал себе Ренцо.
— Я пришел, чтобы узнать, когда вам будет удобно отправиться в церковь, синьор священник, — произнес он вслух.
— О каком дне вы хотите поговорить?
— Что значит «о каком дне»? Вы разве не помните, что мы договорились на сегодня?
— На сегодня? — ответил дон Аббондио так, словно слышал об этом в первый раз. — Сегодня… Сегодня… Вам придется запастись терпением. Сегодня я не могу.
— Не можете сегодня! Что стряслось?
— Прежде всего я, видите ли, нехорошо себя чувствую.
— Мне жаль; однако то, что вы должны сделать, не займет много времени и совершенно вас не утомит…
— И все же, все же…
— «И все же» что?
— И все же существуют затруднения.
— Затруднения? Какие затруднения тут могут быть?
— Пока не окажешься в нашей шкуре, не поймешь, с какими хлопотами связаны подобные вопросы, сколько всего нужно объяснять. А я слишком мягкосердечен, думаю лишь о том, как бы устранить препятствия, как бы облегчить другим жизнь, как бы угодить им — и, в результате, пренебрегаю своим долгом. А потом на меня сыплются упреки — и это в лучшем случае.
— Да не тяните же, во имя небес! Скажите прямо, в чем дело.
— Знаете, с каким количеством формальностей сопряжено заключение брака?
— Еще бы! — ответил Ренцо, начиная раздражаться. — За последние дни вы мне этим всю плешь проели. Но разве теперь мы с ними не покончили? Разве не сделали все, что нужно было сделать?
— Это вам кажется, что все. Запаситесь терпением. Отдуваться-то потом мне из-за того, что пренебрег своим долгом, дабы не огорчить других. В общем… довольно, я знаю, что говорю. Мы, бедные священники, находимся между молотом и наковальней. Вы нетерпеливы. Я сочувствую вам, бедный юноша. А что до тех, кто стоит надо мной… Впрочем, я не могу сказать вам всего. Суть в том, что мы оказываемся меж двух огней.
— Но объясните хотя бы раз, в чем заключается та формальность, о которой вы упомянули; мы быстро с ней покончим.
— Вам известно, сколько существует обстоятельств, препятствующих заключению брака?
— Откуда мне об этом знать?
—Error, conditio, votum,cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, si sis affinis…5 — начал дон Аббондио, загибая пальцы.
— Вы издеваетесь? — перебил его юноша. — Откуда мне знать вашу латынь?
— Значит, вы в подобных вещах не разбираетесь. Имейте терпение и оставьте их тому, кто в них разбирается.
— Ну так поторопитесь!
— Полноте, дорогой Ренцо, не выходите из себя. Я готов сделать… все, что от меня зависит. Я? Я лишь хочу, чтобы вы были довольны. Я желаю вам добра. Эх!.. Только подумаю, какая у вас была хорошая жизнь… Чего вам не хватало? Так ведь нет, взбрело в голову жениться…
— К чему такие разговоры, монсеньор? — воскликнул Ренцо.
На его лице читалось нечто среднее между изумлением и гневом.
— Да я это так, к слову. Имейте терпение. Просто к слову пришлось. Я лишь хочу, чтобы вы были довольны.
— В общем…
— В общем, дорогой сынок, моей вины в этом нет. Законы писаны не мной. И, прежде чем вас обвенчать, нам нужно многое проверить, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.
— Да вы скажете наконец, что за препятствие возникло?
— Имейте терпение, так просто здесь все не объяснить. Надеюсь, что ничего серьезного; но тем не менее нам нужно это проверить. В тексте все говорится четко и ясно:antequammatrimonium denunciet…6
— Я же вам сказал, что не желаю слышать латынь.
— Однако нужно, чтобы я объяснил вам…
— Но вы разве уже и так все не проверили?
— Не все из того, что надлежало, как я вам и сказал.
— Так почему вы не сделали это вовремя? Зачем сказали мне, что все закончено? Зачем дожидались…
— Вот! Вы упрекаете меня в моей излишней доброте. Я все упростил, дабы услужить вам как можно скорее. А… А теперь приключились… Впрочем, это уже мое дело.
— Но мне-то теперь что делать?
— Потерпите несколько дней. Несколько дней — не вечность, дорогой сынок. Имейте терпение.
— И сколько?
«Вот это уже лучше», — подумал дон Аббондио и с необычайным жеманством произнес:
— Ну, через пятнадцать дней я попробую… постараюсь…
— Пятнадцать дней! Вот это новости! Все было сделано так, как вы хотели: день был назначен, и он наступил, а теперь вы мне говорите, чтобы я ждал еще пятнадцать дней. Пятнадцать… — повторил Ренцо громче и более раздраженным тоном, потрясая кулаком в воздухе.
И кто знает, что бы еще он учинил, если бы дон Аббондио не вмешался, схватив его за другую руку и произнеся ласково-застенчивым голосом:
— Полноте, полноте, не расстраивайтесь. Я посмотрю, смогу ли за неделю…
— А Лючии-то мне что сказать?
— Что причиной всему — моя ошибка.
— А если пойдет молва?
— Всем остальным тоже говорите, что ошибся я, по причине собственной торопливости и добросердечия. Во всем вините меня. Что еще сказать-то? К тому же это всего одна неделя.
— И больше задержек не будет?
— Когда я говорю вам…
— Ладно, я потерплю неделю, но уясните себе, что по ее прошествии отговорок я больше не приму. Мое почтение.
С этими словами он удалился, отвесив дону Аббондио куда менее низкий поклон, чем обычно, со взглядом скорее выразительным, чем почтительным.
Выйдя на улицу и впервые за все время направившись к дому своей суженой безо всякой охоты, раздраженный Ренцо вновь и вновь мысленно возвращался к только что состоявшемуся разговору, и чем больше молодой человек о нем думал, тем более странным он ему казался. Холодные и в то же время стесненные манеры дона Аббондио, его неуверенная и одновременно раздраженная речь, взгляд его серых глаз, которые никак не хотели встречаться с глазами Ренцо, словно он боялся произнести слова, которые вертелись у него на языке, его напускное изумление, будто он слышал об уже назначенном венчании в первый раз, постоянные намеки на что-то очень важное, о чем он, впрочем, так ни разу и не сказал прямо, — все это заставляло Ренцо думать, что дон Аббондио желал что-то скрыть. Какое-то мгновение юноша даже хотел вернуться обратно, прижать священника к стенке и заставить его говорить прямо; однако, подняв взгляд, он заметил шагавшую чуть впереди него женщину. Служанка свернула к саду, располагавшемуся в нескольких шагах от дома. Увидев, что она отворяет калитку, Ренцо окликнул ее. Ускорив шаг, молодой человек подошел к ней и задержал ее у входа, твердо намереваясь добиться чего-нибудь определенного хотя бы от служанки.
— Доброго дня, Перпетуя. Я надеялся, что он будет радостным для нас обоих.
— Эх! На все воля Божья, мой бедный Ренцо.
— Окажите мне услугу: этот блаженный синьор священник городил какой-то вздор, который я не смог толком понять; объясните-ка мне вы, почему он не может или не хочет обвенчать нас сегодня.
— Ох! Неужели вы думаете, что я знаю секреты своего хозяина?
«Как я и полагал: здесь кроется какая-то тайна», — подумал Ренцо и, желая выведать ее у служанки, продолжил:
— Да будет вам, Перпетуя; мы ведь друзья. Расскажите мне, что знаете. Помогите бедному сынку.
— Плохое дело — родиться бедным, мой дорогой Ренцо.
— Правда, — ответил тот, все больше укрепляясь в своих подозрениях, и, стремясь разговорить ее, повторил: — Правда. Но разве гоже священникам плохо обращаться с бедняками?
— Послушайте, Ренцо, я не могу ничего сказать, потому что… ничего не знаю. Однако могу заверить вас, что мой хозяин не желает зла ни вам, ни кому-либо другому, вины его в этом нет.
— Тогда чья в этом вина? — спросил Ренцо, стараясь выглядеть небрежно.
Однако сердце молодого человека замерло. Он навострил уши.
— Когда я говорю вам, что ничего не знаю… Но в защиту своего хозяина я могу высказаться, поскольку мне больно слышать, что его обвиняют в желании кого-то огорчить. Бедолага! Если он и грешит, то лишь из чрезмерной доброты. Хорошо-то живется одним только мерзавцам, самодурам да людям без страха Господнего…
«Самодурам! Мерзавцам! — подумал Ренцо. — Она явно говорит не о церковном начальстве».
— Ну же, — произнес он вслух, с усилием скрывая свое нараставшее возбуждение. — Будет вам. Скажите мне, о ком речь.
— Ах! Вы хотите заставить меня говорить, а я не могу говорить, потому что… ничего не знаю. А когда человек ничего не знает, это как поклясться молчать. Хоть пытайте меня — ни слова не вытянете. До свидания, мы оба теряем время.
С этими словами Перпетуя спешно зашла в сад, закрыв за собой калитку. Пожелав ей всего наилучшего, Ренцо медленно побрел обратно, чтобы не дать ей понять, куда на самом деле направляется. Отойдя на достаточное расстояние, чтобы добрая женщина не смогла его услышать, юноша ускорил шаг, через мгновение оказавшись у двери в дом дона Аббондио. Войдя туда, он направился прямо в гостиную, где чуть ранее и оставил священника. Увидев его, Ренцо вперил в дона Аббондио глаза и с решительным видом шагнул к нему.
— Эй-эй! Это еще что за новости? — сказал дон Аббондио.
— Кто этот самодур, — спросил Ренцо тоном человека, пребывающего в решимости получить прямой ответ, — который не желает, чтобы я женился на Лючии?
— Что-что-что? — пролепетал застигнутый врасплох бедолага, в одно мгновение побелев и обмякнув.
Заворчав, он вскочил из своего кресла, намереваясь броситься к выходу. Однако ждавший подобного Ренцо преградил ему путь и, повернув ключ в замке, вытащил его из скважины и сунул себе в карман.
— Ага! Ага! Теперь-то будете говорить, синьор священник? О моих делах известно всем, кроме меня самого. И я теперь, черт его дери, тоже хочу обо всем узнать. Как его звать?
— Ренцо! Ренцо! Во имя всего святого, только взгляните, что вы делаете, подумайте о своей душе.
— Я думаю, что хочу все узнать немедленно, в сей же момент.
Сказав это, он, быть может, неосознанно положил руку на рукоятку ножа, торчавшую из его кармана.
— Смилуйтесь! — воззвал к нему дон Аббондио слабым голосом.
— Я хочу это знать.
— Кто вам сказал…
— Нет-нет, больше никакого вранья. Говорите ясно и тотчас же.
— Вы хотите моей смерти?
— Я хочу знать то, что имею право знать.
— Но если я заговорю, я — мертвец. А мне моя жизнь дорога.
— Раз так — то говорите.
Это «раз так» было произнесено с таким напором, а лицо Ренцо выглядело столь угрожающе, что дон Аббондио не мог даже помыслить о том, чтобы ослушаться.
— Вы обещаете мне, клянетесь, что не скажете об этом никому, никогда? — спросил он.
— Я обещаю вам, что сотворю нечто нехорошее, если вы немедленно не назовете мне его имя.
Услышав эту новую угрозу, дон Аббондио, с лицом и взглядом человека, которому в рот сунул свои щипцы зубодер, наконец уступил:
— Дон…
— Дон…? — повторил Ренцо с видом врача, желающего помочь пациенту извергнуть оставшееся.
Он наклонил ухо к губам священника, держа за спиной напряженно сжатые кулаки.
— Дон Родриго! — спешно произнес несчастный, запинаясь и глотая согласные, частично — от волнения, частично — от того, что разрывался между двумя своими страхами, стараясь одновременно произнести слово и заставить его исчезнуть.
— Ах он пес! — воскликнул Ренцо. — И как же он это сделал? Что сказал вам, чтобы…?
— Как, значит? Как? — отозвался почти что негодующим голосом дон Аббондио, который, пойдя на такую жертву, считал, что Ренцо теперь его должник. — Как, значит? Хотел бы я, чтобы вам пришлось так же, как мне, который здесь вообще ни при чем; вы бы тогда живо поумнели. — Сказав это, он принялся в самых мрачных тонах описывать ужасающую встречу. Повествуя о ней, он понял, что все больше и больше распаляется, давая волю ярости, над которой до этого удавалось брать верх страху. Видя, что Ренцо стоит, опустив голову и разрываясь между бешенством и замешательством, он добавил весело: — В хорошенькую же вы историю ввязались! Здорово же мне удружили! Поступить так с благородным человеком, с вашим же священником! В его собственном доме! В святом месте! Вот уж подвиг! Вынудили меня обо всем рассказать мне и себе на погибель! А я ведь все скрывал из осторожности, заботясь о вас! И что теперь, когда вы все узнали? Хотел бы я увидеть, что вы со мной сделаете! Во имя небес! Это вам не шутки. Дело не в правоте или неправоте, дело в силе. А когда я вам этим утром дал добрый совет… вы сразу взбеленились. А я ведь думал о себе и о вас. Что же теперь делать? Уж дверь-то хотя бы откройте. Дайте мне мой ключ.
— Быть может, я ошибся, — ответил Ренцо голосом, смягчившимся в отношении дона Аббондио, однако полным ярости к врагу, чье имя он только что узнал. — Быть может, я ошибся, однако, положа руку на сердце и встав на мое место…
С этими словами он вытащил ключ из кармана и начал открывать дверь. Дон Аббондио подошел к нему сзади и, пока тот поворачивал ключ в замке, встал к юноше вплотную, подняв вверх три пальца правой руки так, словно сам желал ему помочь.
— По крайней мере поклянитесь… — начал он.
— Быть может, я ошибся, извиняюсь, — ответил Ренцо, открывая дверь и намереваясь уйти.
— Поклянитесь… — вновь сказал дон Аббондио, хватая его трясущейся рукой.
— Быть может, я ошибся, — повторил Ренцо, высвобождаясь из его хватки.
Он пулей вылетел из дома, положив конец спору, который, подобно литературному, философскому или еще какому в этом духе, мог длиться целую вечность, поскольку каждый лишь повторял бы свои аргументы.
— Перпетуя! Перпетуя! — закричал священник после бесплодных попыток вернуть ушедшего.
Однако Перпетуя не ответила. Дон Аббондио больше не знал, на каком свете находится.
Даже людям куда значительнее дона Аббондио случалось оказываться в положении столь затруднительном и неопределенном, что наилучшим выходом им представлялось сказаться больными и слечь в постель. Впрочем, священнику не пришлось даже притворяться. Пережитый им накануне испуг, бессонная ночь, страх, которого он натерпелся сегодня, и боязнь грядущего все сделали за него. В тревожном ошеломлении дон Аббондио опустился в свое кресло, начиная ощущать странный холод в костях, и стал изучать свои ногти, вздыхая и время от времени зовя Перпетую слабым, но при этом раздраженным голосом. Наконец, служанка появилась с огромной головкой капусты под мышкой и таким лицом, словно ничего не произошло. Я избавлю читателя от жалоб, сочувственных вздохов, обвинений, оправданий и обычных для таких случаев слов, вроде «только вы могли проговориться» и «я ничего не говорила». Достаточно сказать, что дон Аббондио приказал Перпетуе запереть дверь на засов и не открывать ее ни под каким предлогом, а если кто-то начнет ломиться — сказать ему в окно, что священник слег с жаром. Затем дон Аббондио поднялся по лестнице, через каждые три ступеньки повторяя «Мне конец!». Оказавшись у себя в комнате, священник улегся в постель, где мы его и оставим.
Тем временем охваченный яростью Ренцо шагал к себе домой, не зная, что ему делать, однако чувствуя непреодолимое желание совершить что-то странное и страшное. Провокаторы и притеснители — все те, кто так или иначе причиняет вред другим, — виновны не только в причиняемом ими зле, но и в том, что они творят с душами тех, кому это зло причинили. Ренцо был юношей мирным и совершенно не кровожадным, юношей чистосердечным и в жизни не строившим никому козней, однако в тот момент он мог думать лишь об убийстве и том, как бы соорудить какую-нибудь ловушку. Ему хотелось броситься к дому дона Родриго, схватить того за горло и…
Однако затем он вспомнил, что дом этот был подобен крепости, кишевшей брави внутри и снаружи; что свободно входить туда могли лишь друзья и доверенные слуги; всех остальных тщательно обыскивали, и незнакомому ремесленнику не удалось бы проникнуть в дом без такого обыска. А главная загвоздка… Главная загвоздка заключалась в том, что дон Родриго, вероятно, слишком хорошо его знал. Он подумывал о том, чтобы взять свое ружье, спрятаться за какой-нибудь изгородью и надеяться, что тот будет идти один. Погрузившись в эти полные кровожадного удовольствия мысли, он почти слышал шаги дона Родриго, видел, как берет его на мушку, как стреляет, как тот падает, корчась в агонии, как он сам, выкрикнув в его адрес проклятие, мчится к границе, чтобы спастись. Но как же Лючия? Одно воспоминание о ней развеяло его мрачные фантазии, на смену которым пришли привычные добрые мысли.
Он вспомнил о том, как в последний раз видел своих родителей, о Боге, о Мадонне и святых, подумал, какое утешение не раз находил в мыслях о том, что за всю жизнь не совершил ни одного преступления, в какой ужас его всегда приводили рассказы об убийствах. Подумал — и очнулся от кровавых грез, ощутив испуг и угрызения совести и в то же время радуясь, что не совершил того, что представил. Однако сколько же других мыслей повлекла за собой мысль о Лючии! Столько надежд, столько обещаний! Какое же чудесное будущее их ждало, и какон был в нем уверен! Как желал наступления этого дня! Какже сообщить ей эту новость? И как поступить дальше?Каксделать ее своей, несмотря на козни могучего злодея?
И в то же время в разум юноши закралась тень подозрения. Причиной возмутительной наглости дона Родриго могла быть лишь животная страсть к Лючии. А сама Лючия? Могла ли она дать ему хоть какой-то предлог воспылать к ней подобной страстью, сделать хотя бы малейший намек? Впрочем, подобная мысль в голове Ренцо не могла даже возникнуть. Однако знала ли она об этом хоть что-нибудь? Неужели не заметила гнусной страсти дона Родриго? Пытался ли тот добиться ее каким-то иным образом прежде, чем прибегнуть к подобной мерзости? Но ведь Лючия никогда не говорила ему ни слова! Ему, своему суженому!
Охваченный этими мыслями, он прошел мимо своего дома, располагавшегося посреди деревни, и направился к дому Лючии, стоявшему на ее краю, даже слегка на отшибе. У этого домика был маленький дворик с каменной оградкой, отделявший его от улицы. Войдя во дворик, Ренцо услышал доносившийся из комнаты второго этажа приглушенный звук голосов и предположил, что к Лючии пришли подружки да соседки, чтобы сопровождать ее. Ему не хотелось показываться перед ними расстроенным из-за того, что он только что узнал. Сидевшая во дворе девчушка бросилась ему навстречу, вопя:
— Жених! Жених!
— Тише, Беттина, тише! — сказал Ренцо. — Иди-ка сюда; сходи наверх к Лючии, отведи ее в сторонку и скажи ей на ухо… но так, чтобы никто не слышал… скажи, что я хочу поговорить, что жду ее на первом этаже и чтобы она пришла как можно скорее.
Девчушка бросилась вверх по лестнице, счастливая и гордая, что ей дали тайное поручение.
В тот момент мать Лючии как раз закончила ее наряжать. Подружки немедленно обступили невесту, желая получше ее разглядеть. Та отбивалась от них со слегка воинственной скромностью крестьянки, закрывая лицо локтем, опуская подбородок на грудь и хмуря длинные черные брови; впрочем, делая это, она улыбалась. Черные волосы, разделенные тонким белым пробором, были заплетены на затылке во множество косичек, уложенных кольцами и заколотых серебряными шпильками; расходясь веером, они образовывали подобие нимба — прическу, которую до сих пор носят крестьянки в окрестностях Милана. На шее у девушки было ожерелье из гранатов, перемежавшихся с золотыми филигранными бусинами. Стан ее облегал расшитый цветами парчовый корса