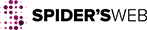Oferta wyłącznie dla osób z aktywnym abonamentem Legimi. Uzyskujesz dostęp do książki na czas opłacania subskrypcji.
14,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 14,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 14,99 zł
Zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego i kupuj ebooki, audiobooki oraz książki papierowe do 50% taniej.
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: КСД
- Kategoria: Romanse i erotyka•Romanse
- Język: rosyjski
Антон Гофмиллер — лейтенант кавалерии австрийской армии, выходец из бедной многодетной семьи. По воле случая он оказался на ужине у богатого землевладельца. Стараясь быть галантным кавалером, Антон пригласил на танец дочь хозяина Эдит. Но он не знал, что девушка не может ходить… На следующий день Антон послал Эдит букет прекрасных цветов в знак извинения. Вскоре он стал частым гостем в этом доме. С каждым днем Эдит все сильнее привязывается к молодому лейтенанту. Она грезит о любви, ей кажется, что их чувства взаимны. Ведь Антон так добр к ней! Но все, что им движет, — огромное сострадание. Эта жалость разобьет сердце девушки…
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 609
Podobne
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2020
ISBN 978-617-12-8247-6 (epub)
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства
Электронная версия создана по изданию:
Перевод с немецкогоАлександра Марченко
Дизайнер обложкиНаталья Коноплич
Антон Гофміллер — лейтенант кавалерії австрійської армії, виходець із бідної багатодітної родини. За примхою долі він опинився на вечері у багатого землевласника. Намагаючись бути галантним кавалером, Антон запросив до танцю дочку господаря Едіт. Однак він не знав, що дівчина не може ходити… Наступного дня Антон пославЕдіт букет гарних квітів на знак вибачення. Скоро він став частим гостем у цьому домі. З кожним днем Едіт усе сильніше прив’язується до молодого лейтенанта. Вона марить коханням, їй здається, щоїхні почуття взаємні. Адже Антон такий добрий до неї! Але все, що ним керує, — величезне співчуття.
Цвейг C.
Ц26 Нетерпение сердца : роман / Стефан Цвейг ; пер. с нем.А.Марченко. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. — 464 с.
ISBN 978-617-12-8125-7
Антон Гофмиллер — лейтенант кавалерии австрийской армии, выходец из бедной многодетной семьи. По воле случая он оказался на ужине у богатого землевладельца. Стараясь быть галантным кавалером, Антон пригласил на танец дочь хозяина Эдит. Но он не знал, чтодевушка не может ходить… На следующий день Антон послал Эдит букет прекрасных цветов в знак извинения. Вскоре он стал частым гостем в этом доме. С каждым днем Эдит все сильнее привязывается к молодому лейтенанту. Она грезит о любви, ей кажется, что их чувства взаимны. Ведь Антон так добр к ней! Но все, что им движет, – огромное сострадание.
УДК 821.112.2
©DepositPhotos.com / AndreyKr, TTstudio, arogant, scanrail, обложка, 2020
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2020
©Книжный Клуб «Клуб СемейногоДосуга», издание на русском языке, 2020
Об авторе
Стефан Цвейг родился в Вене 28 ноября 1881 года, жил в Зальцбурге с 1919 по 1935 год, затем эмигрировал в Англию, а в 1940 году — в Бразилию. Сперва он заявил о себе как переводчик Верлена, Бодлера и прежде всего Верхарна, а в 1901 году опубликовал первый сборник своих стихов под названием «Серебряные струны». Художественные произведения принесли Цвейгу не меньшую славу, нежели его исторические миниатюры и биографические работы. В 1944 году было опубликовано автобиографическое произведение Цвейга под названием «Вчерашний мир», в котором описывается прошлое писателя. В феврале 1942 года он добровольно ушел из жизни в бразильском городе Петрополисе.
***
«Ибо всякому имеющему дастся и приумножится» — эти слова из Книги Мудрости может с уверенностью подтвердить каждый писатель, ведь многое рассказывают именно тому, кто и сам многое рассказывает. Нет ничего более ошибочного, чем бытующее мнение, что фантазия поэта постоянно работает, что он непрерывно черпает случаи и истории из неистощимых запасов воображения. На самом деле, вместо того чтобы самостоятельно что-то придумывать, ему следует лишь позволить образам и событиям найти себя, ведь если он сохранил обостренную способность смотреть и слушать, то образы и события, постоянно стремящиеся быть рассказанными, сами отыщут его; кто часто пытается толковать судьбы, тому многие рассказывают о своей судьбе.
Эту историю мне тоже поведали, причем совершенно неожиданным образом, и я передаю ее почти без изменений. Однажды вечером, в мой последний приезд в Вену, устав от всевозможных дел, я отыскал один пригородный ресторан, который, как мне показалось, уже давно вышел из моды и был малолюдным. Но, войдя внутрь, я тут же с раздражением осознал свою ошибку. Из-за первого же столика поднялся знакомый и пригласил меня подсесть к нему, проявив при этом искреннюю и бурную радость, на которую я не мог ответить тем же. Было бы несправедливо утверждать, что этот усердный господин сам по себе был несносным или неприятным человеком; он просто принадлежал к тому типу навязчиво общительных людей, которые, подобно детям, собирающим почтовые марки, ревностно коллекционируют знакомства и посему особенно гордятся каждым экземпляром своей коллекции. Для этого добродушного чудака —между прочим, весьма компетентного и дельного архивариуса — весь смысл жизни сводился к тому, чтобы приупоминании имени, время от времени прочитанного в газете, быть в состоянии добавить с тщетным самодовольством: «Это мой хороший друг», или «О, я как раз встретил его вчера», или «Мой друг А сказал мне, а мой друг Б заметил…», и так по всему алфавиту. Он никогда не пропускал возможности поаплодировать на премьерах своих друзей, на следующее утро звонил каждой актрисе с поздравлениями, не забывал ни об одном дне рождения, умалчивал о неприятных газетных заметках, а хвалебные вырезал и от чистого сердца отправлял по почте. Таким образом, он был довольно неплохим человеком, поскольку в своем усердии искренне радовался, когда его просили о небольшой услуге или жепополняли его коллекцию знакомств новым экземпляром.
Но, пожалуй, не стоит более подробно описывать моего друга.Adabei1 — это насмешливое прозвище обычно используется в Вене для описания различных добродушных паразитов в пестрой группе снобов. Каждый знаком с этим типом людей и знает, что их трогательной безобидности можно противостоять, лишь проявив грубость, поэтому я смиренно подсел к нему. Четверть часа мы провели за болтовней, и в ресторан вошел высокий господин, примечательный благодаря свежему и моложавому лицу и пикантной седине на висках; ровная осанка незнакомца сразу же выдала, что в прошлом он был военным. Мой сосед с типичным для него рвением вскочил из-за стола, чтобы поприветствовать господина, однако тот ответил скорее безразлично, нежели вежливо. Не успел новый посетитель сообщить подбежавшему официанту свой заказ, как мой другAdabeiуже придвинулся ко мне поближе и шепотом спросил:
— Вы ведь знаете, кто это?
Вспомнив о его привычке демонстрировать любой мало-мальски интересный экземпляр своей коллекции и опасаясь нескончаемых объяснений, я подчеркнуто незаинтересованным тоном произнес «Нет» и продолжил ковырять вилкой шоколадный торт. Однако мое безразличие лишь подзадорило этого коллекционера имен, и, прикрыв рот ладонью, он тихо прошептал:
— Это же Гофмиллер из главного интендантства. Он еще получил во время войны орден Марии-Терезии2, разве не помните?
Поскольку этот факт не потряс меня так, как надеялся мой собеседник, он с энтузиазмом, напомнившим мне чтение патриотической книги, начал выкладывать все подробности из жизни незнакомца. Так я узнал, каких успехов добился в войну ротмистр Гофмиллер, — сперва в кавалерии, затем в разведывательном полете, во время которого он в одиночку сбил три самолета, и наконец, в пулеметной роте, в составе которой он занял и удерживал в течение трех дней участок фронта, — все это сопровождалось множеством деталей (которые я здесь пропущу) и безграничным удивлением в связи с тем, что я никогда не слышал об этом замечательном человеке, которому император Карл3собственной персоной вручил редчайшую австрийскую военную награду.
Невольно поддавшись искушению, я взглянул на покрывшего себя славой героя, который сидел за столиком в двух метрах от нас, но тут же встретился с жестким, сердитым взглядом, который словно говорил: «Он что, уже рассказал тебе что-то обо мне? Нечего на меня пялиться». Этот господин с явной неприязнью подвинул кресло в сторону и энергично повернулся к нам спиной. Слегка устыдившись, я отвел взгляд и больше не смел смотреть даже на потолок над столиком незнакомца. Вскоре после этого я попрощался со своим болтливым собеседником, но еще на выходе из ресторана заметил, что тот сразу же переместился за столик своего героя, вероятно, чтобы рассказать ему обо мне с таким же рвением, как и мне о нем.
На этом все и закончилось. Спустя какое-то время я непременно забыл бы о сей мимолетной встрече, но случаю было угодно, чтобы уже на следующий день в небольшой компании я снова встретился с неприветливым господином, который, кстати, в вечернем смокинге выглядел еще более эффектно и элегантно, чем вчера в костюме более спортивного покроя. Мы оба с трудом скрыли легкую улыбку, эту зловещую усмешку двух людей, которых объединяет тщательно охраняемая от окружающих тайна. Он сразу же узнал меня, как и я его, и нас обоих наверняка в одинаковой степени взволновало и позабавило воспоминание о вчерашней встрече со сводником-неудачником. Вначале мы избегали разговоров друг с другом; впрочем, рано или поздно это стремление должно было оказаться безнадежным просто потому, что вокруг нас развернулась жаркая дискуссия.
Предмет этой дискуссии угадать несложно, если я упомяну, что она имела место в 1938 году. Впоследствии летописцы нашего времени однозначно установят, что в 1938 году почти в каждом разговоре в любой стране нашей охваченной тревогой Европы преобладали предположения о возможности или невозможности начала новой мировой войны. Этатема неизбежно завораживала участников любого собрания, и иногда возникало ощущение, что это не люди реагируют на свои страхи, высказывая предположения и надежды, а самаатмосфера того времени, взволнованная и отягощеннаяскрытым напряжением, стремится выплеснуться в форме слов.
Беседу завел хозяин дома, адвокат по профессии и человек, не терпящий возражений; при помощи избитых аргументов он пытался доказать обычную чушь, что, мол, новое поколение знакомо с войной и не станет ввязываться в еще одну без подготовки, как в прошлый раз. По его словам, еще во время мобилизации винтовки развернулись бы в обратную сторону, ведь старые фронтовики вроде него еще не забыли, что их ожидает. Меня раздражала ничем не оправданная уверенность, с которой он, стряхивая пепел с сигареты легким постукиванием указательного пальца, невозмутимо отмахивался от вероятности новой войны, в то время как десятки и сотни тысяч фабрик выдавали на-гора взрывчатые вещества и ядовитые газы. «Не всегда следует полагаться на то, во что хочется верить, — ответил я ему довольно решительно. — Ведомства и организации, которые руководили военным аппаратом, тоже не спали, и пока мы тешились иллюзиями, они в полной мере воспользовались мирным временем, чтобы заранее организовать массы и, так сказать, привести их в боевое положение. Уже сейчас, в условиях мира, всеобщее повиновение возросло до невероятных масштабов благодаря совершенствованию пропаганды, и нужно взглянуть в лицо тому факту, что, как только по радио объявят о мобилизации, нет оснований надеяться на какое-либо сопротивление. Человек — всего лишь песчинка, и сегодня с его волей попросту никто не считается».
Разумеется, все выступили против меня, ведь в сложившейся практике человеческий инстинкт самооглушениястремится во что бы то ни стало избавиться от осознаваемыхопасностей, провозглашая их недействительными, и мое предостережение от дешевого оптимизма неизбежно должно было показаться нежеланным, особенно если учитывать, что в соседней комнате как раз накрыли роскошный стол.
Неожиданно, подобно секунданту, на мою сторону встал кавалер ордена Марии-Терезии, как раз тот, в ком мой ошибочный инстинкт заподозрил противника.
— Да это полная ерунда, — горячо заявил он, — в наше время продолжать учитывать желание или нежелание человеческой массы, потому что в следующей войне реальная мощь будет закреплена за машинами, а людям будет отведенароль лишь некой их составляющей. Еще в прошлую войну мне не часто доводилось встречать на поле боя тех, кто был однозначно за или однозначно против войны. Большинство солдат попросту подхватило, как ветер подхватывает облако пыли, а затем закружило в огромном вихре, где каждый из них безвольно трясся, словно горошина в большом мешке. В общей сложности людей, которые убежали на войну, возможно, оказалось даже больше, чем тех, кто убегал от нее.
Я слушал его, удивляясь прежде всего тому, с каким запалом он продолжал говорить:
— Давайте не будем предаваться иллюзиям. Если бы сегодня в какой-либо стране для совершенно экзотической войны, скажем, для войны в Полинезии или в одном из уголков Африки, начали набирать добровольцев, то тысячи и сотни тысяч людей устремились бы туда, не разобравшись толком почему, — возможно, лишь из желания убежать от себя или от неприятных обстоятельств. Реальное же сопротивление войне я вряд ли могу оценить выше нуля. Для того чтобы противостоять коллективной машине, отдельному человеку всегда требуется гораздо большее мужество, нежели для того, чтобы просто плыть по течению. Люди, обладающие подобным личным мужеством, представляют собой отдельный вид, и этот вид стремительно вымирает в наше время прогрессирующей организации и механизации. Лично я сталкивался во время войны почти исключительно с явлением массового мужества, мужества в строю, и если присмотретьсяк нему поближе, то можно обнаружить весьма странные составляющие: много тщеславия, много легкомыслия и даже скуки, но прежде всего много страха — страха быть оставленным позади, страха быть высмеянным, страха выступить в одиночку, а главное, страха противопоставить себя общему порыву; большинство из тех, кого считали самыми храбрыми на поле боя, я знал лично, и на гражданке они представляли собой довольно сомнительных героев. Пожалуйста, не думайте, — вежливо обратился он к хозяину, чье лицо исказилось в гримасе, — что для себя я сделаю исключение.
Мне понравилась его манера речи, и я хотел было подойти к нему, но тут хозяйка позвала всех за стол, и, оказавшись далеко друг от друга, мы не смогли завести разговор. Лишь когдавсе стали расходиться, мы столкнулись у гардероба.
— Кажется, — улыбнулся он мне, — наш общий покровитель уже заочно представил нас друг другу.
Я улыбнулся в ответ:
— Причем весьма основательно.
— Небось, расписал, какой я Ахиллес, и хвастался моим орденом, как своим?
— Что-то вроде того.
— Да, он им чертовски гордится — как и вашими книгами.
— Чудной парень! Но бывают и похуже. Кстати — если вы не против, мы могли бы немного пройтись вместе.
Мы вышли на улицу. Внезапно он обратился ко мне:
— Возможно, это прозвучит пафосно, но поверьте, в течение многих лет ничто не мешало мне так, как этот орден Марии-Терезии, — как по мне, слишком уж он бросается в глаза. То есть, если честно, — когда мне повесили его на грудь там, на фронте, я был совершенно потрясен. В конце концов, если из тебя растили солдата и в кадетской школе рассказывали об этом ордене, как будто это что-то легендарное, как будто в каждую войну он достается, может, десятку человек, то он и вправду начинает казаться звездой, упавшей с неба. Да, для двадцативосьмилетнего парня это значит немало. Внезапно ты стоишь перед строем, все смотрят с изумлением, как у тебя на груди вспыхивает маленькое солнце, и император, его неприступное величество собственной персоной, поздравляет тебя, пожимая руку. Но, видите ли, эта награда имела смысл и значимость только в нашем военном мирке, и по окончании войны мне показалось нелепым всю оставшуюся жизнь продолжать разыгрывать из себя героя лишь потому, что однажды в течение каких-то двадцати минут я проявил настоящую отвагу — наверняка не бóльшую, нежели десятки тысяч других солдат. Мне просто повезло быть замеченным и, возможно, еще сильнее повезло вернуться домой живым. Уже через год мне чертовски надоело, что, где бы я ни был, люди пялились на маленький кусочек металла, а потом с трепетом поднимали на меня глаза, как на ходячий памятник. Раздражение, вызванное этим вечным вниманием, было одной из решающих причин, по которым я вернулся к гражданской жизни почти сразу же после окончания войны.
Он слегка ускорил шаг.
— Как я уже сказал, это была одна из причин, но главная причина имела личный характер, и она, возможно, будет вам более понятна. Главной причиной было то, что я сам подвергал глубокому сомнению свое оправдание и, в любом случае, свой героизм; я-то лучше всяких зевак знал, что за этим орденом скрывался кто-то, кого можно было назвать героем лишь с натяжкой, кто-то совершенно далекий от геройства — один из тех, кто так решительно ринулся на войну лишь потому, что хотел спастись от отчаянной ситуации. Скорее дезертир, сбежавший от собственной ответственности, нежели герой, покорившийся чувству долга. Не знаю, как вам, но лично мне жизнь с нимбом святого кажется неестественной и невыносимой, и я почувствовал искреннееоблегчение оттого, что мне больше не придется носить повсюду свою героическую биографию на мундире. Даже сегодня меня раздражает, когда кто-то откапывает мою старую славу, и, должен вам признаться, вчера я был в шаге от того, чтобы подойти к вашему столику и наброситься на нашегоболтливого знакомого, приказав ему хвастаться кем-нибудь другим, а не мной. Ваш почтительный взгляд продолжал терзать меня весь вечер, и больше всего на свете мне хотелось опровергнуть слова этого болтуна и заставить вас выслушать, какими кривыми путями я достиг своего героизма на самом деле. Это довольно странная история, но, по крайней мере, она показала бы вам, что мужество зачастую представляет собой не что иное, как перевернутую слабость. Впрочем, я без колебаний рассказал бы вам ее прямо сейчас. Когда проходит четверть века, начинает казаться, что твоя история касается уже не тебя, а кого-то другого. Найдется ли у вас время, чтобы выслушать меня? Если, конечно, я еще не утомил вас.
Разумеется, у меня было время; в ту ночь мы еще долго ходили вверх и вниз по опустевшим улицам, да и в последующие дни встречались неоднократно. В рассказ господина Гофмиллера я внес лишь незначительные изменения — возможно, гусаров назвал уланами, немного сместил гарнизоны на карте, чтобы сделать их неузнаваемыми, и в качестве меры предосторожности скрыл все настоящие имена. Но нигде я не добавил ничего существенного, и далее следуют слова самого рассказчика.
1При ком-то (нем.). (Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.)
2 Австрийский военный орден. Был учрежден королевой Венгрии и Богемии Марией-Терезией в 1757 году, вручался до 1931 года.
3 Карл Франц Иосиф I (1887—1922) — последний император Австро-Венгрии, низложенный в 1918 году.
Есть два вида сострадания. Одно — малодушноеи сентиментальное, которое на самом деле является лишь нетерпением сердца, стремящегося как можноскорее отстраниться от болезненного переживания чужого несчастья; это сострадание вовсе не со-страдание, а лишь инстинктивное желание оградить собственную душу от чужой боли. Но есть и другое, единственно истинное сострадание — это несентиментальное творческое сопереживание, котороезнает, чего хочет, и твердо намерено терпеливо и сочувственно преодолеть все преграды, сделав все, чтов его силах, и даже свыше их.
Стефан Цвейг. Нетерпение сердца
***
Все началось с несуразности, совершенно невинной неловкости, с gaffe4, как говорят французы. Затем пришла попытка исправить свою глупость; но когда пытаешься поспешно починить какое-нибудь колесико в часах, то зачастую портишь весь механизм. Даже сегодня, спустя много лет, я не могу определить, где закончилась неуклюжесть и началась моя собственная вина. Вероятно, я никогда так и не узнаю этого.
В то время мне было двадцать пять лет и я служил лейтенантом в Н-ском уланском полку. Не могу сказать, что когда-либо испытывал особую страсть или внутреннее призвание к офицерской службе. Но когда в старинной австрийской чиновничьей семье за скромно накрытым столом сидят две дочки и четыре вечно голодных сына, то их недолго спрашивают о предпочтениях, а как можно скорее подталкивают к делу, словно пирожки в духовку, чтобы они не слишком обременяли домашнее хозяйство. Моего брата Ульриха, который еще в начальной школе испортил себе глаза учебой, отправили в семинарию; меня же, по причине крепкого телосложения, отдали в военное училище — оттуда нить жизни разматывается механически, и ее не приходится больше смазывать маслом. Государство берет на себя все заботы. За несколько лет оно бесплатно, по заранее изготовленному казенному образцу, вырезает из бледнолицего мальчишки фенриха5 с пушком на щеках и доставляет его в армию в готовом к использованию виде.
Однажды, в день рождения императора, когда мне не было еще и восемнадцати лет, состоялся наш выпуск, и вскоре после этого мне на воротник запрыгнула первая звездочка; таким образом, первый этап подошел к концу, и теперь цикл продвижения по службе мог механически продолжаться с установленными интервалами, вплоть до выхода на пенсию и подагры. Служба в кавалерии, которая представляет собой довольно дорогостоящее удовольствие, тоже была не моим личным желанием, а скорее прихотью тетки Дейзи — второй жены старшего брата отца, которая вышла за него замуж, после того как он перешел из министерства финансов на более прибыльную должность президента банка. Эта богачка со снобистскими замашками не могла допустить, чтобы кто-нибудь из ее родственников, тоже носивших фамилию Гофмиллер, «опозорил» семью службой в пехоте; а поскольку эта блажь обходилась ей в сто крон ежемесячно, мне приходилось всецело выказывать ей высшую степень благодарности. Вопрос о том, хотелось ли мне служить в кавалерии или вообще в армии, никого не интересовал, меня в том числе. Однако мне нравилось скакать верхом, и стоило мне оказаться в седле, как я переставал замечать все вокруг.
В ноябре 1913 года из одной канцелярии в другую, должно быть, поступил какой-то приказ, потому что наш эскадрон неожиданно перевели в другой небольшой гарнизон на венгерской границе. Не важно, назову ли я настоящим именем городок, в котором он находился, или нет, ведь один австрийский провинциальный гарнизон отличается от другого не больше, чем пуговицы на мундире. Повсюду одни и те же казенные элементы: казарма, конный манеж, плац для занятий строевой подготовкой и офицерское казино, а также три гостиницы, две кофейни, кондитерская, винный бар и убогое варьете с потасканными субретками, которые в свободное от выступлений время охотно делят между собой офицеров и одногодичников6. Где бы ни проходила военная служба, она непременно означает одну и ту же монотонную деятельность, расписанную час за часом в соответствии с жесткими многовековыми правилами, да и досуг в гарнизоне выглядит ненамного разнообразнее. В офицерском казино все те же лица, те же разговоры; в кофейне все те же карточные игры и тот же бильярд. Порой даже удивляешься, как это Богу было угодно, чтобы пейзажи вокруг шестисот или восьмисот зданий такого типичного городка и небо над их крышами время от времени претерпевали изменения.
Однако мой новый гарнизон имел одно преимущество перед предыдущим, галицким: он находился достаточно близко как к Вене, так и к Будапешту, и здесь останавливались скоростные поезда. Те, у кого были деньги, — а в кавалерии всегда служили всякие богачи, в том числе добровольцы, и некоторые из них принадлежали к высшему дворянству, а некоторые являлись сыновьями фабрикантов — могли, если им удавалось вовремя улизнуть, отправиться в Вену на пятичасовом поезде и в полтретьего ночи уже вернуться в гарнизон. Таким образом, у них было достаточно времени, чтобы сходить в театр, прогуляться по Рингштрассе, изобразить из себя кавалера и заняться поиском случайных приключений; некоторые счастливчики даже имели там постоянную квартиру или снимали номер в гостинице. К сожалению, такие освежающие эскапады выходили за рамки моего ежемесячного бюджета. Единственным развлечением для меня оставалась кофейня или кондитерская, да и там я довольствовался игрой в бильярд или еще более дешевые шахматы, поскольку карточные игры обычно были мне не по карману.
Однажды днем, кажется, в середине мая 1914 года, я, как обычно, сидел за столиком в кондитерской с аптекарем из «Золотого ангела», который по совместительству также являлся вице-мэром нашего гарнизонного городка. Мы давно уже завершили свои обычные три партии и теперь лениво обменивались репликами, чтобы скоротать время, — чем еще можно было заняться в этом гнезде невыносимой скуки? Но и эта пустая беседа уже догорала, подобно сигарете. Внезапно открывается дверь, и на волне свежего воздуха внутрь входит красивая девушка в развевающейся юбке-колокольчике: карие миндалевидные глаза, смуглая кожа, шикарно одетая, в общем, не такая, как остальные провинциалы, — новое лицо в этой Богом забытой глуши. К сожалению, утонченная нимфа не удостаивает нас, застывших в почтительном благоговении, ни единым взглядом; привычно быстрой спортивной походкой она проходит мимо девяти мраморных столиков к стойке и заказывает тамen gros7торты, пирожные и напитки. Мне сразу бросается в глаза, какdevotissime8склоняется перед ней кондитер, — я еще ни разу прежде не видел, чтобы задний шов сюртука так туго натягивался у него на спине. Даже его жена, эта неотесанная, упитанная провинциальная Венера, которая обычно снисходительно позволяет всем офицерам ухаживать за собой (под конец месяца у нас часто накапливались небольшие долги), поднимается со своего места у кассы, едва не расплываясь от сливовой вежливости. Пока господин Гроссмайер записывает заказ в книгу, милая незнакомка, беззаботно закинув в рот парочку пралине, обменивается парой слов с его женой; мы усердно, возможно, даже излишне усердно вытягиваем шеи, но молодая дама по-прежнему не смотрит в нашу сторону. Разумеется, она даже не думает утруждать свои прелестные ручки покупками; госпожа Гроссмайер покорнейшим образом заверяет ее, что все свертки будут доставлены домой. Расплачиваться у кассового аппарата наличными, как это делаем мы, простые смертные, красавица тоже не стала. Сразу понятно: благородная клиентура, высший сорт!
Сделав заказ, она поворачивается к выходу, и господин Гроссмайер торопливо выскакивает вперед, чтобы открыть перед ней дверь. Господин аптекарь тоже поднимается с места и почтительно кланяется красавице, пока та проплывает мимо нас. Она благодарит с любезностью императрицы — боже, какие прекрасные бархатные глаза, как у лани! — и я с трудом дожидаюсь, пока она, усыпанная сладкими комплиментами, покинет магазин, чтобы тут же с нетерпением спросить у моего партнера, откуда в нашем курятнике появился этот лебедь.
— А вы разве не знакомы с ней? Это же племянница господина Кекешфальвы (я назову его так, хотя в действительности его имя звучит иначе), вы ведь знаете господина Кекешфальву?
Кекешфальва: он произносит это имя так, будто швыряет банкноту в тысячу крон, и смотрит на меня, словно ожидая, что я тут же отзовусь благоговейным эхом: «Кекешфальву? Конечно же!». Но я, недавно переведенный сюда лейтенант, которого лишь волей случая занесло в этот гарнизон, не имею ни малейшего представления о таинственном божестве и вежливо прошу предоставить дальнейшие объяснения, что господин аптекарь и делает — со всем упоением провинциального тщеславия и, конечно же, намного более пространно, чем это пересказываю я.
Кекешфальва, объясняет он мне, самый богатый человек во всем округе. Почти все принадлежит ему; не только замок Кекешфальва — «Вы наверняка видели его с учебного плаца, слева от шоссе, этот желтый замок с плоской башней и большим старым парком», — но и большой сахарный завод по дороге в Р., лесопилка в Бруке, а также конюшня в М.; ему принадлежит все это и еще шесть или семь домов в Будапеште и Вене. «Да уж, сложно поверить, что рядом с нами есть такие богатейшие люди, но господин Кекешфальва живет как настоящий магнат. Зиму он проводит в небольшом венском особняке на Жакенгассе, а лето на курортах; тут, собственно, он бывает лишь пару месяцев весной, но, Богом клянусь, для нас эти месяцы являются самыми незабываемыми! Квартеты из Вены, шампанское и французские вина, все только лучшее, только первого сорта!» Если я захочу, господин аптекарь с удовольствием познакомит меня с ним, ведь он — тут следует самодовольный жест — дружит с господином Кекешфальвой, часто имел с ним дела в прошлые годы и знает, что тот всегда охотно принимает у себя офицеров; одно его слово, и меня непременно пригласят.
А почему бы и нет? В болоте такого провинциального гарнизона невольно начинаешь задыхаться. Прогуливаясь по главной улице, осознаешь, что уже знаешь в лицо всех женщин; знаешь, какая у каждой из них летняя и зимняя шляпка и какое платье является будничным, а какое праздничным. Знаешь их собак, служанок и детей — и в лицо, и со спины. Знаешь каждое блюдо, которое в состоянии приготовить богемская повариха-толстушка из офицерского казино, и знаешь, что при взгляде на вечно одинаковое меню в трактире зачастую пропадает аппетит. Знаешь наизусть каждоеназвание, каждую вывеску, каждый плакат в каждом переулке, каждый магазин в каждом здании и каждый товар в каждом магазине. Знаешь не хуже самого обер-кельнера Ойгена, в какой час в кофейне появится окружной судья и что он займет место в углу слева у окна и ровно в четыре тридцать закажет себе кофе с молоком, в то время как нотариус придет ровно через десять минут, в четыре сорок, из-за несварения желудка (наконец хоть какая-то перемена) выпьет чашечку чая с лимоном и, покуривая, как обычно, свою виргинскую сигару, расскажет привычные анекдоты. Да что уж там, знаешь все лица, все мундиры, всех лошадей, всех кучеров, всех попрошаек по всему округу, знаешь самого себя до отвращения. Почему бы хоть раз не вырваться из этого замкнутого круга? Тем более что я снова смогу увидеть эту прелестную девушку с бархатными карими глазами! Итак, приняв решение, я с напускным равнодушием (только бы не выказать свою радость перед этим тщеславным пилюльщиком!) говорю своему покровителю, что, конечно, мне было бы приятно познакомиться с семьей господина Кекешфальвы.
И действительно — смотри-ка, бравый аптекарь не соврал! – уже через два дня он, раздуваясь от гордости, заходит в кофейню и покровительственным жестом протягивает мне напечатанное приглашение, в которое каллиграфическим почерком вписано мое имя; в приглашении говорится, что господин Лайош фон Кекешфальва приглашает господина лейтенанта Антона Гофмиллера на ужин в среду в восемь часов вечера. Что ж, я тоже не лыком шит и знаю, как вести себя в таком случае. Уже воскресным утром я гладко брею щеки, капаю немного одеколона на усы, надеваю свой лучший наряд, белые перчатки, лакированные ботинки и выезжаю, чтобы нанести визит вежливости. Слуга — старый, сдержанный, в красивой ливрее — берет мое приглашение и, извиняясь, бормочет, что господа будут очень расстроены тем, что пропустили визит господина лейтенанта, но, к сожалению, они в церкви. «Тем лучше, — думаю я, — визиты вежливости — самое неприятное занятие, как на службе, так и вне ее. В любом случае, ты свой долг выполнил. В среду сходишь к Кекешфальве, и, будем надеяться, все пройдет гладко». Однако, обнаружив через два дня, то есть во вторник, визитку господина Кекешфальвы, оставленную в моей комнатке, я искренне обрадовался. «Какие, однако, безупречные у некоторых людей манеры, — подумал я. — Уже через два дня после моего визита вежливости встречный визит ко мне, младшему офицеру, — на бóльшую учтивость и уважение не мог бы рассчитывать даже генерал!» И теперь я с действительно хорошим предчувствием жду вечера среды.
Однако судьба с самого начала решила сыграть со мною злую шутку — видимо, нужно было оставаться начеку и обращать больше внимания на всякие приметы. В среду, в полвосьмого вечера, я уже наготове: парадный мундир, новые перчатки, лакированные ботинки, стрелки на брюках отутюжены до остроты лезвия. Мой денщик как раз расправляет складки на моей шинели и еще раз оглядывает, все ли в порядке (мне всегда приходится прибегать к его услугам, поскольку в моей плохо освещенной комнатке имеется лишь небольшое ручное зеркальце), как вдруг раздается стук в дверь: посыльный. Дежурный офицер, мой приятель, ротмистр граф Штайнхюбель, просит меня подойти к нему в казарму. Двое улан, по всей видимости вдрызг пьяные, подрались, и один ударил другого карабином по голове. Теперь этот рохля лежит там, весь в крови, без сознания и с раскрытым ртом — непонятно вообще, цел ли его череп. Однако полковой врач умчался в отпуск в Вену, а полковника попросту не могут найти; поэтому, оказавшись в затруднительном положении, мой друг Штайнхюбель, будь он неладен, послал именно за мной, чтобы я его выручил, пока он позаботится о пострадавшем, и теперь я должен составить протокол и отправить посыльных во все концы с приказом быстро разыскать в кофейне или еще где-нибудь гражданского врача. Тем временем уже без четверти восемь, и я понимаю, что в следующие пятнадцать или тридцать минут точно не освобожусь. Черт побери, почему этот переполох должен был случиться именно сегодня? Сегодня, когда меня пригласили в гости! Все с бóльшим нетерпением я посматриваю на часы; прийти вовремя уже не удастся, даже если я провожусь здесь еще каких-нибудь пять минут. Но служба превыше всяких личных обязательств — это уж нам точно вбили в голову. Поскольку улизнуть нельзя, я делаю единственно возможное в этой непростой ситуации — посылаю своего денщика на фиакре (это удовольствие обходится мне в четыре кроны) к Кекешфальве с просьбой извинить меня, если я опоздаю в связи с непредвиденными служебными обстоятельствами, и так далее, и тому подобное. К счастью, суета в казарме продолжается не слишком долго, поскольку вскоре появляются и полковник, и врач, которого где-то разыскали, так что теперь я могу незаметно смыться.
Но мне снова не везет: как назло, именно сегодня на площади перед ратушей нет ни единого фиакра, и мне приходится ждать, пока по телефону вызовут восьмикопытный экипаж. Так что, когда я наконец захожу в просторный холл замка Кекешфальвы, минутнаястрелка настенных часов уже смотрит вертикально вниз, показывая ровно полдевятого вместо восьми, и я вижу, что верхняя одежда в гардеробе уже висит вплотную друг к другу. По несколько озадаченному виду слуги я замечаю, что опоздал прилично — неприятно, весьма неприятно, да еще и при первом визите!
Тем не менее слуга — на этот раз в белых перчатках, фраке, накрахмаленной рубашке и с неподвижным лицом — успокаивает меня (мол, денщик доставил мое послание полчаса назад) и проводит в салон, чрезвычайно элегантную комнату с четырьмя окнами, обшитую красным шелком и сияющую хрустальными люстрами; еще никогда я не видел ничего более роскошного. Однако, к моему сожалению и превеликому стыду, оказывается, что салон совершенно пуст, а из соседней комнаты доносится веселый звон тарелок. «Какая же досада, — думаю я, — они уже сидят за столом!»
Но ничего не поделаешь, я беру себя в руки и, как только слуга открывает передо мной раздвижную дверь, подхожу к порогу столовой, резко щелкаю каблуками и кланяюсь. Все смотрят на меня. Двадцать, сорок глаз, абсолютно незнакомых глаз, разглядывают запоздалого гостя, который в не очень уверенной позе застыл перед дверью. Сразу же поднимается пожилой господин, несомненно, хозяин дома; быстро убрав салфетку, он подходит ко мне и приглашающим жестом протягивает руку. Я представлял себе дородного помещика, с мадьярскими усами и толстыми, покрасневшими от хорошего вина щеками, но господин фон Кекешфальва выглядит вовсе не так. За золотыми очками скрываются слегка усталые глаза, а под ними видны сероватые мешки, плечи выглядят немного сутулыми, голос звучит мягко и изредка прерывается тихим покашливанием — это узкое лицо с нежными чертами и тонкой седой бородкой-эспаньолкой больше подошло бы ученому, нежели магнату. Необыкновенная учтивость пожилого господина оказывает на меня успокаивающее воздействие. Нет, нет, это ему следует извиниться, — говорит он, прежде чем я успеваю произнести хоть слово, — он ведь понимает, что на службе может случиться что угодно, и с моей стороны было чрезвычайно любезно сообщить ему о задержке; они решили начать ужин, не дождавшись меня, лишь потому, что не были уверены, приду ли я вообще. Но, пожалуй, не стоит терять времени. Позже он отрекомендует меня каждому из присутствующих по отдельности, а пока что — он подводит меня к столу — познакомит лишь со своей дочерью. Девушка-подросток — нежная, бледная, хрупкая, как и он сам, — прерывает беседу, и на меня устремляется застенчивый взгляд серых глаз. Я мельком вижу тонкое, нервное лицо, сначала кланяюсь ей, затем направо и налево всем остальным. Похоже, гости рады, что им не приходится откладывать ножи и вилки ради хлопотной церемонии знакомства.
Первые две-три минуты я все еще чувствую себя весьма неловко. Здесь нет никого из полка, ни одного приятеля, ни одного знакомого и даже никого из уважаемых людей городка — исключительно чужие, абсолютно незнакомые люди. Кажется, за столом присутствуют преимущественно местные землевладельцы с женами и дочерьми или госслужащие. Но только гражданские — ни единого мундира, кроме моего! Боже мой, как же мне, неуклюжему, застенчивому человеку, вести беседу с этиминезнакомцами? К счастью, меня посадили на хорошее место. Рядом со мной сидит смуглое, жизнерадостное создание — симпатичная племянница, которая, кажется, все же заметила мой восхищенный взгляд в кондитерской, потому что она приветливо улыбается мне, как старому знакомому. Глаза ее — словно кофейные зерна; когда она смеется, мне и вправду начинает казаться, что они трещат, как кофейные бобы при обжарке. Ее прелестные прозрачные ушки скрыты под густыми черными волосами. «Словно розовые цикламены во мху», — думаю я. Ее обнаженные руки мягкие и гладкие; на ощупь они наверняка как очищенные персики.
Приятно сидеть рядом с такой хорошенькой девушкой, и то, что она разговаривает с певучим венгерским акцентом, почти заставляет меня с ходу влюбиться в нее. Приятно ужинать в таком светлом, сверкающем огнями помещении, сидеть за таким элегантно накрытым столом, в то время как позади тебя стоят слуги в ливреях, а перед тобой расставлены прекрасные яства. Моя соседка слева, которая разговаривает с легкими польскими интонациями, тоже кажется мне весьма аппетитной, несмотря на легкую полноту. Или, может, это так на меня действует вино — сначала светло-золотистое, затем кроваво-красное, а теперь искристое шампанское, которое как раз щедро подливают из серебряных графинов и пузатых бутылок слуги в белых перчатках? Действительно, славный аптекарь не соврал: у Кекешфальвы все как при царском дворе. Я еще никогда не ел так хорошо, даже не мечтал о том, что можно есть так вкусно, так изысканно, так роскошно. Все более утонченные и дорогие блюда несут на нескончаемых подносах: в золотом соусе плавает бледно-синяя рыба, увенчанная листьями салата и обрамленная ломтиками омара; каплуны восседают верхом на широких горках из рассыпчатого риса; пудинг пылает в голубом роме; разноцветные шарики мороженого пестреют в вазочках; фрукты, которые, должно быть, проехали полмира, прижимаются друг к другу в серебряных корзинках — нет лакомствам ни конца, ни края. Напоследок на столе появляется настоящая радуга из шнапсов: зеленого, красного, белого, желтого, а в дополнение к превосходному кофе приносят сигары толщиной как побеги спаржи!
Прекрасный, волшебный дом — будь благословен, добрый аптекарь! — яркий, счастливый, звонкий вечер! Я чувствую себя раскованно и свободно — возможно, потому, что справа, слева и напротив меня глаза засияли ярче, а голоса зазвучали громче и остальные гости тоже начали живо разговаривать между собой, позабыв о манерах, — в любом случае, мою обычную застенчивость как рукой сняло. Я непринужденно болтаю, ухаживаю за обеими соседками одновременно, пью, смеюсь, задорно и легко посматриваю по сторонам, и когда время от времени — отнюдь не случайно — мои пальцы скользят по красивым обнаженным рукам Илоны (так зовут хорошенькую племянницу), она, кажется, вовсе не возражает против моих прикосновений; как и все на этом пышном празднестве, она чувствует себя расслабленной и окрыленной.
Постепенно я ощущаю — уж не дает ли о себе знать необыкновенно чудесное вино, токай и шампанское вперемешку? — как меня охватывает жизнерадостная легкость, почти граничащая с безудержностью. Для полного счастья мне не хватает какой-то мелочи — хочется чего-то, от чего можно было бы восторженно парить над облаками, и через мгновение становится понятно, о чем именно я неосознанно просил: внезапно из третьей комнаты за салоном — слуга снова незаметно открыл раздвижную дверь — доносится приглушенная музыка в исполнении квартета, причем именно та музыка, которой мне хотелось, — танцевальная, ритмичная и в то же время мягкая; основную тему вальса исполняют две скрипки, им низко и меланхолично подыгрывает виолончель, а между партиями струнных резким стаккато четко отбивает ритм рояль. Да, музыка, музыка, только ее мне и не хватало! Музыки и, возможно, танца, вальса — хочется кружиться и летать, чтобы с еще большей радостью ощущать внутреннюю легкость! Вилла Кекешфальвы, должно быть, какой-то зачарованный дом, где стоит лишь загадать желание, и оно тут же исполнится. Теперь мы встаем из-за стола, отодвигаем стулья и пара за парой — я протягиваю Илоне руку и снова ощущаю прикосновение ее прохладной, мягкой, роскошной кожи — переходим в салон, где слуги, словно добрые гномы, уже убрали столы и расставили кресла вдоль стен. Гладкий коричневый паркет блестит, как зеркало, напоминая небесную площадку для вальса, а из соседней комнаты незримо льется оживляющая музыка.
Я поворачиваюсь к Илоне. Она понимающе смеется. Ее глаза уже сказали «да», и мы уже парим над гладким паркетом — две, три, пять пар — пока пожилые и более осмотрительные люди наблюдают за нами или болтают друг с другом. Мне нравится танцевать, я даже хорошо танцую. Мы восторженно кружимся, и мне кажется, что еще никогда я так хорошо не танцевал. На следующий вальс я приглашаю другую соседку по столу; она тоже замечательно танцует, и, склонившись к ней, я, слегка одурманенный, вдыхаю аромат ее волос. Эх, как же чудесно она танцует, как же здесь все чудесно, я уже много лет не был так счастлив. Я уже ничего не понимаю, больше всего на свете мне хочется всех обнять и сказать каждому что-то теплое, сердечное — до того легко, жизнерадостно и блаженно молодо я себя чувствую. Я кружусь в танце то с одной, то с другой, я разговариваю, смеюсь и, увлеченный потоком своего счастья, не ощущаю времени.
Внезапно я смотрю на часы: половина одиннадцатого. С ужасом я понимаю, что танцую, разговариваю и развлекаюсь уже почти час, но — вот же болван! — еще ни разу не пригласил на танец дочку хозяина дома. Я танцевал лишь со своими соседками по столу и еще с двумя-тремя дамами, которые понравились мне больше всех, а про дочку хозяина напрочь забыл! Какая невежливость, какое оскорбление! Нужно срочно исправить свою оплошность!
Но с тем же ужасом я понимаю, что абсолютно не могу вспомнить внешность девушки. Лишь на мгновение я поклонился ей, когда она уже сидела за столом; я смутно припоминаю что-то нежное и хрупкое, а затем быстрый любопытный взгляд ее серых глаз. Но где же она? Будучи дочерью хозяина дома, она не могла покинуть гостей, верно? Я беспокойно разглядываю всех женщин и девушек вдоль стены: никто не похож на нее. Наконец я вхожу в третью комнату, где, скрытый за китайской ширмой, играет квартет, и вздыхаю с облегчением. Я нашел ее — это точно она! — нежная, худенькая, в бледно-голубом платье, сидит между двумя пожилыми дамами в углу будуара за зеленым малахитовым столом, на котором стоит плоская вазочка с цветами. Девушка слегка наклонила голову и, кажется, всецело поглощена музыкой, ее прозрачно-бледный лоб, обрамленный тяжелыми рыжевато-каштановыми прядями, еще сильнее выделяется на фоне яркого багрянца роз. Но я не трачу время на пустое созерцание. «Слава богу, — вздыхаю я с облегчением, — что я все-таки отыскал ее. Теперь я смогу наверстать упущенное».
Я подхожу к столу (рядом гремит музыка) и кланяюсь в знак вежливого приглашения. Удивленные глаза смотрят на меня, полные недоумения, губы перестают двигаться на полуслове. Но она не встает, чтобы последовать за мной. Она что, не поняла намека? Я кланяюсь еще раз и под тихий звон своих шпор спрашиваю: «Могу ли я пригласить вас на танец, милостивая госпожа?»
И тут происходит что-то ужасное. Девушка, которая до этого сидела, слегка наклонившись вперед, внезапно отшатывается, как от удара; в тот же миг ее бледные щеки заливает румянец, слегка открытые губы плотно сжимаются, и только глаза неподвижно смотрят на меня с таким выражением ужаса, которое мне еще ни разу не доводилось встречать. В следующий момент по всему ее сжатому телу пробегает судорога. Пытаясь подняться, она обеими руками упирается в стол, так что ваза на нем начинает дребезжать, в то же время что-то твердое — деревянное или металлическое — падает с ее кресла на пол. Она все еще держится за качающийся стол обеими руками, ее легкое, как у ребенка, тело все еще продолжает содрогаться; но тем не менее она не сдается, еще отчаяннее цепляясь за тяжелую столешницу. Ее тело по-прежнему трясется, дрожь пробегает от сжатых кулаков и до самых волос. Внезапно из нее вырывается всхлипывание: дикое, стихийное, словно задушенный крик.
Обе пожилые дамы уже подхватывают ее с обеих сторон, уже поддерживают, гладят и успокаивают трясущуюся девушку, уже мягко разжимают ее ладони, вцепившиеся в стол, и она снова падает в кресло. Однако плач не прекращается; он становится еще более яростным, как горловое кровотечение или рвотные позывы. Если оглушительная музыка, играющая за ширмой, умолкнет хоть на мгновение, рыдания донесутся до танцевального зала.
Я стою на месте, сбитый с толку, перепуганный. Что произошло? В растерянности я смотрю, как обе старушки пытаются успокоить девушку, которая пристыженно уронила голову на стол. Раз за разом по ее худенькому тельцу пробегают новые приступы рыданий, волна за волной, до самых плеч, и с каждым из этих резких потрясений ваза на столе дребезжит в такт. Я же продолжаю стоять, абсолютно беспомощный; мои суставы заледенели, а воротничок сдавливает шею, словно раскаленная веревка.
— П-простите, — наконец тихо произношу я заикаясь и, пошатываясь, отступаю в зал.
Обе женщины заняты плачущей, и им не до меня. Осмотревшись по сторонам, я понимаю, что в зале, кажется, еще никто ничего не заметил, — пары стремительно кружатся в танце. Пол уходит у меня из-под ног, и я невольно хватаюсь за дверной косяк. Что произошло? Что я сделал не так? Боже мой, по всей видимости, под конец ужина я выпил слишком много, слишком быстро и спьяну сотворил какую-то глупость!
Тут музыка останавливается, пары расходятся. Поклонившись, окружной капитан отпускает Илону, и я тут же бросаюсь к ней и почти насильно тащу изумленную девушку в сторону:
— Пожалуйста, помогите мне! Богом прошу, помогите, объясните, что произошло?
Вероятно, Илона ожидала, что я отвел ее к окну, чтобы прошептать на ушко что-то смешное, потому что ее взгляд сразу же становится твердым: наверное, мое возбуждение вызывает у нее жалость или испуг. Словно в лихорадке, я рассказываю ей о том, что случилось. Как ни странно, в ее глазах тут же появляется ярко выраженный ужас, как и у дочки хозяина дома, и Илона гневно кричит:
— Вы что, с ума сошли?.. Вы разве не знаете?.. Разве вы не видели?..
— Н-нет, — отвечаю я, уничтоженный этим новым и таким же необъяснимым ужасом. — Что видел?.. Я же ничего не знаю. Я же впервые в этом доме.
— Неужели вы не заметили, что Эдит… парализована?.. Не видели ее бедные искалеченные ноги? Она и двух шагов без костылей сделать не может… а вы… груб… (она быстро сдерживает гневное словцо) вы приглашаете бедняжку на танец… Ах, какой ужас, мне нужно срочно убедиться, что она в порядке…
— Постойте, — я в отчаянии хватаю Илону за руку, — еще минутку, одну минутку… Пожалуйста, извинитесь перед ней от моего имени. Я даже подумать не мог… Я ведь видел ее только за столом, да и то всего лишь секунду… Умоляю, объясните ей это…
Однако Илона с гневом в глазах уже высвободила руку и бежит в комнату. Задыхаясь, с тошнотой во рту, я стою у порога салона, где все кружится и шумит; люди, которые непринужденно болтают и смеются, внезапно кажутся невыносимыми, и мне в голову приходит мысль: еще пять минут, и все узнают о моей глупости. Пять минут, и со всех сторон на меня устремятся презрительные, неодобрительные, ироничные взгляды, а завтра сотни уст по всему городу начнут обсуждать мою дурацкую оплошность — с утра пораньше слухи вместе с молоком начнут разносить по домам, затем они распространятся по людским, а дальше в кофейни и бюро. Завтра обо всем узнают в моем полку.
В этот момент я, словно сквозь пелену, вижу отца девушки. Со слегка удрученным видом — неужели знает? — он направляется через зал. Подойдет ли он ко мне? Нет — только бы не встретиться с ним сейчас! Внезапно меня охватывает панический страх перед ним и перед всеми остальными. Не до конца понимая, что делаю, я шатающейся походкой приближаюсь к двери, которая ведет в холл, устремляясь прочь из этого чертового дома.
— Господин лейтенант уже покидают нас? — почтительно, но с ноткой сомнения в голосе осведомляется слуга.
— Да, — отвечаю я.
Как только это слово слетает с моих губ, мне становится страшно. Действительно ли я хочу уйти? Уже через мгновение, когда он снимает с крючка и подает мне шинель, я четко осознаю, что своим малодушным бегством совершаю новую и, возможно, еще более непростительную глупость. Однако уже слишком поздно. Не могу же я снова отдать ему шинель и вернуться в зал, когда он, слегка поклонившись, открывает передо мной дверь. И вот я внезапно оказываюсь на улице перед чужим, проклятым домом — холодный ветер дует мне в лицо, сердце сгорает от стыда, и я судорожно, словно задыхаясь, хватаю воздух ртом.
Это и была та досадная оплошность, с которой все началось. Теперь, когда после стольких лет я с холодной головой вспоминаю это нелепое происшествие, с которого началась та роковая цепочка событий, я вынужден признать, что, в сущности, вляпался в эту историю исключительно по невинному недоразумению; даже самый умный, самый опытный человек мог бы допустить такуюgaffe, пригласив парализованную девушку на танец. Но в тот момент, охваченный свежим ужасом, я чувствовал себя не только безнадежным дураком, но и грубияном — даже преступником. Я чувствовал себя так, словно ударил плеткой невинного ребенка. В конце концов, не будь я таким трусом, случившееся можно было бы исправить; ситуация окончательно испортилась лишь тогда, когда я просто сбежал, как преступник, даже не попытавшись извиниться, — это стало ясно, как только первый поток холодного воздуха ударил меня в лоб.
Не могу описать состояние, в котором я стоял перед домом. Музыка стихла за светящимися окнами; вероятно, музыканты просто сделали перерыв. Но я так остро переживал свою вину, что начал лихорадочно представлять, будто танцы прекратились из-за меня и все гости устремились в маленький будуар, чтобы утешить плачущую; за закрытой дверью мужчины, женщины и девушки наверняка в единодушном порыве возмущения обсуждали негодяя, который пригласил ребенка-инвалида на танец, а после этого мерзкого поступка тут же трусливо сбежал. А завтра — меня бросило в холодный пот, и я почувствовал, как он струйками стекает под фуражкой, — уже весь город будет знать о моем позоре, и слухи о моей трусости распространятся со скоростью пожара. Мысленно я уже видел, как мои товарищи — Ференц, Мыслывец и прежде всего Йожи, чертов шутник, — подойдут ко мне и, причмокивая, скажут: «Ну, Тони, ты и учудил! Стоило лишь один-единственный раз спустить тебя с поводка, как ты тут же опозорил весь полк!» Насмешки месяцами будут сопровождать меня в офицерской столовой; ведь военные любят по десять, двадцать лет пережевывать за столом каждое прегрешение, которое однажды совершил один из их товарищей; любая глупость увековечивается, любая шутка преследует тебя до гроба. Даже сегодня, по прошествии шестнадцати лет, в полку продолжают рассказывать довольно скучную историю ротмистра Волынского. Вернувшись из Вены, он начал хвастаться, что познакомился на Рингштрассе с графиней Т. и первую же ночь провел в ее квартире, однако через два дня в газетах написали о скандале с увольнением горничной, которая, отправляясь в город по делам и в поисках любовных приключений, выдавала себя за графиню Т. Нашему же Казанове после амурных похождений пришлось пройти трехнедельный курс лечения у полкового врача. Любой, кто хоть раз выставит себя дураком перед товарищами, навсегда останется для них посмешищем — они этого не забудут и не простят. Чем больше я думал о своей ситуации, тем больше впадал в лихорадку абсурдных идей. В тот момент мне казалось, что будет в сто раз легче избавиться от мучений легким нажатием на курок револьвера, нежели продолжать терпеть адскую агонию последующих дней, ожидая в полной беспомощности, что товарищи вот-вот узнают о моем позоре и начнут перешептываться и насмехаться у меня за спиной. Я хорошо знал себя и понимал, что у меня никогда не хватит сил выстоять, если я стану объектом насмешек, издевательств и сплетен.
Не знаю, как я тогда добрался до казармы. Помню лишь, что первым же делом распахнул шкаф, где стояла бутылка сливовицы, предназначенной для гостей, и опрокинул два-три неполных стакана, пытаясь избавиться от ужасной тошноты в горле. Затем я бросился на кровать, прямо в одежде, и попытался хорошенько все обдумать. Но как цветы пышно расцветают в душной оранжерее, так и бредовые видения начали буйно разрастаться в темноте. Спутанные и причудливые, они пускали ослепительные лианы, от которых у меня перехватывало дыхание, и со скоростью снов создавали в моем разгоряченном мозгу самые нелепые и чудовищные кошмары. Опозорен на всю жизнь, думал я, изгнан из общества, осмеян товарищами, отвергнут всем городом! Никогда больше я не смогу покинуть эту комнату, никогда больше не осмелюсь показаться на улице, опасаясь встречи с кем-либо из тех, кому известно о моем преступлении (ибо в ту ночь первоначального перевозбуждения я воспринимал свою обычную глупость именно как преступление, а себя самого считал гонимым и затравленным всеобщими насмешками). Когда я наконец забылся неглубоким, поверхностным сном, моя кошмарная лихорадка продолжилась и там.
Едва я открываю глаза, как передо мной снова стоит разгневанное детское лицо, я вижу дрожащие губы, судорожно вцепившиеся в стол руки, слышу стук упавших деревяшек и только теперь осознаю, что это, по всей видимости, были костыли. Меня охватывает глупый страх, что с секунды на секунду откроется дверь, и отец девушки — черный сюртук, белый воротничок, золотые очки, ухоженная козлиная бородка — подойдет к моей кровати. В ужасе я вскакиваю с постели. Пока я рассматриваю в зеркале свое вспотевшее от страха лицо, меня одолевает желание дать по морде болвану, который скрывается за бледным стеклом.
Но, к счастью, уже наступил день — из коридора доносится шум шагов, а внизу, на мостовой, громыхают кареты. Когда в окне светло, мыслишь более ясно, чем будучи погруженным в злую тьму, которая радостно порождает призраков. Возможно, говорю я себе, не все так ужасно. Возможно, никто ничего даже не заметил. Правда, она-то никогда этого не забудет и не простит — бледная хромая бедняжка! Внезапно в моей голове вспыхивает спасительная мысль. Я поспешно расчесываю свои растрепанные волосы, натягиваю мундир и пробегаю мимо озадаченного денщика, который на кривом немецком с русинским акцентом отчаянно кричит мне вслед:
— Пане лейтенант, пане лейтенант, кофе уже готово!
Я мчусь вниз по лестнице и с такой скоростью проношусь мимо улан, которые, еще полуодетые, стоят во дворе казармы, что они едва успевают встать навытяжку. Со свистом лечу дальше и оказываюсь за воротами. Бегу, не сворачивая, в цветочный магазин на площади перед ратушей; бегу с такой скоростью, которая едва ли допустима для лейтенанта. Разумеется, в своем нетерпении я напрочь забыл, что в полшестого утра магазины еще закрыты, но, к моему счастью, госпожа Гуртнер помимо цветов также торгует овощами. Перед ее дверью стоит наполовину разгруженная тележка с картофелем. Я громко стучу в окно и вскоре слышу шаги хозяйки, спускающейся по лестнице. Я торопливо выдумываю историю: вчера у меня совсем из головы вылетело, что сегодня именины у моей хорошей подруги. Через полчаса мы уезжаем, поэтому мне прямо сейчас хотелось бы отправить ей цветы — самые лучшие, какие у вас есть, да побыстрее! Толстая торговка, еще в ночной кофте, шаркая дырявыми пантуфлями, открывает лавку и демонстрирует мне свое главное сокровище — огромный букет роз с длинными стеблями. Сколько вам? Все, говорю я, все! Просто перевязать их сверху или лучше положить в красивую корзинку? Да-да, давайте в корзинку.
На роскошный заказ уходит все, что оставалось от моего месячного жалованья, в ближайшие дни придется затянуть пояс потуже и отказаться от ужина и походов в кофейню — или же занять денег. Но в данный момент меня это не беспокоит, более того, я даже рад, что моя оплошность обходится мне так дорого, поскольку меня не прекращает мучить злобное желание как следует наказать себя, болвана, за дважды совершенную глупость.
Ну что, вроде бы все в порядке? Самые лучшие розы красиво уложены в корзинку, и их немедленно отправят куда надо! Но тут фрау Гуртнер отчаянно выбегает за мной наулицу. А куда и кому отправлять цветы? Ведь господин лейтенант ничего не сказали. Ох и болван — уже трижды — я ведь от волнения забыл упомянуть адрес. На виллу Кекешфальва, говорю я и, как нельзя более вовремя представив испуганный возглас Илоны, вспоминаю имя своей бедной жертвы: фройляйн Эдит фон Кекешфальва.
— Конечно, конечно, господа фон Кекешфальвы, — с гордостью отвечает фрау Гуртнер, — наши лучшие клиенты!
И снова вопрос — а я ведь уже собрался уходить — не хочу ли я добавить пару слов? Пару слов? Ну да, конечно! Кто отправитель? От кого цветы? Как еще она может это узнать?
Итак, я возвращаюсь в лавку, достаю визитку и пишу сверху: «Прошу прощения». Нет, так не пойдет! Это была бы уже четвертая оплошность: не стоит лишний раз напоминать ей о своем проступке. Но что же написать? «Искренне сожалею» тоже не подходит, в конце концов, она может подумать, что я отношусь к ней с жалостью. Пожалуй, лучше вообще ничего не писать.
— Просто положите к цветам мою визитку, фрау Гуртнер, этого будет достаточно.
Теперь мне становится легче. Я спешу обратно в казарму, залпом выпиваю свой кофе и кое-как провожу инструктаж, наверняка более нервно и невнимательно, чем обычно. Но в армии на такие мелочи привыклине обращать внимания: некоторые лейтенанты приходят на службу с тяжелой от похмелья головой, другие же после ночной гулянки в Вене возвращаются настолько уставшими, что засыпают на ходу, даже если их конь в этот момент скачет резвой рысью. Вообще-то мне даже идет на пользу то, что у меня нет ни минутки свободной: я отдаю приказы, произвожу смотр, затем выезжаю наплац. Служба в какой-то степени отвлекает меня от беспокойства; правда, между висками по-прежнему пульсирует неприятное воспоминание, а в горле словно застряла пропитанная желчью губка.
Но в полдень, как раз собравшись пойти в офицерскую столовую, я слышу громкое «Пане лейтенант!». Мой денщик догоняет меня и протягивает письмо — продолговатый конверт из голубой английской бумаги, слегка надушенный, на обороте изящный тисненый герб; адрес написан тонкими удлиненными буквами, женский почерк. Я торопливо вскрываю конверт и читаю:
Большое спасибо, господин лейтенант, занезаслуженно красивые цветы. Они мне очень понравились, и я до сих пор ими наслаждаюсь. Пожалуйста,приходите к нам на чай в любой вечер. Предупреждать о визитенеобязательно. Я —к сожалению — всегдадома.
Эдит ф. К.
Изящный почерк. Я невольно вспоминаю тонкие детские пальчики, прижавшиеся к столу, вспоминаю бледное лицо, которое внезапно залилось румянцем, как будто в бокал налили бордо. Перечитав строки еще пару раз, я наконец вздыхаю с облегчением. Как деликатно она умалчивает о моей оплошности! И в то же время как тактично и умело сама намекает на собственную немощь. «Я — к сожалению — всегда дома». Более великодушное прощение трудно представить. Ни следа от обиды. У меня словно камень с души упал. Я чувствую себя подсудимым, который думал, что его приговорят к пожизненному заключению, но затем судья встает, надевает головной убор и объявляет: «Оправдан». Само собой разумеется, мне нужно как можно скорее нанести визит на виллу, чтобы поблагодарить Эдит. Сегодня четверг — значит, пойду в воскресенье. Или нет, лучше в субботу!
Но я не сдержал данное себе слово. Я был слишком нетерпелив. Мне не давало покоя желание как можно скорее узнать, что мой долг окончательно погашен, и избавиться от гнетущего ощущения неопределенности, ибо мои нервы по-прежнему зудели от страха, что кто-то в офицерской столовой, кофейне или еще где-нибудь упомянет о моем злоключении: «Ну как, тебе понравилось у Кекешфальв?» В таком случае мне хотелось бы иметь возможность спокойно и уверенно ответить: «Замечательные люди! Вчера вечером я снова ходил к ним на чаепитие», — чтобы каждый знал, что меня не выгнали оттуда поганой метлой. Поскорее бы поставить точку в этой скверной истории! Поскорее бы разделаться с ней! Апогеем этой внутренней нервозности становится то, что уже на следующий день, то есть в пятницу, пока мы с Ференцем и Йожи, моими лучшими товарищами, прогуливаемся по главной улице, меня внезапно осеняет решение: ты должен нанести визит уже сегодня! Сразу же после этого я прощаюсь с моими слегка удивленными друзьями.
Идти тут недолго, максимум полчаса быстрым шагом. Сначала пять скучных минут по городу, а затем по пыльной проселочной дороге, которая также ведет к нашему учебному плацу и на которой наши кони уже знают каждый камешек и каждый поворот (поэтому здесь можно на время ослабить поводья). Лишь во второй половине пути, у маленькой часовни возле моста, влево отходит узкая, затененная старыми каштановыми деревьями аллея, которой редко пользуются люди и которая непрестанно следует плавным изгибам небольшого ручья.
Но удивительно — чем ближе я подхожу к маленькому замку, ажурные ворота и белая ограда которого уже виднеются на горизонте, тем быстрее улетучивается мое мужество. Как зачастую прямо перед дверью в кабинет зубного врача люди ищут повод, чтобы развернуться и уйти, даже не подергав колокольчик, так и мне сейчас хочется убежать. Неужто и вправду обязательно идти туда уже сегодня? Возможно, мне следовало бы считать письмо Эдит подтверждением того, что эта неприятная история окончательно улажена? Я невольно замедляю шаг; у меня все еще есть время, чтобы вернуться, да и обходной путь всегда оказывается более приятным, если не хочется идти по прямому. Поэтому, перейдя ручей по шаткой доске, я сворачиваю с аллеи на луг, чтобы пройтись вокруг замка.
Дом за высокой каменной оградой представляет собой продолговатое одноэтажное здание в стиле позднего барокко, выполненное на староавстрийский манер в так называемом «шёнбруннском желтом» цвете и оснащенное зелеными ставнями. Несколько небольших построек, очевидно, помещение для прислуги, контора и конюшня, отделены внутренним двором и втискиваются в просторный парк, которого я совершенно не заметил во время своего первого ночного визита. Только теперь, заглядывая сквозь овальные отверстия в мощной стене — так называемые «бычьи глаза», — я понимаю, что замок Кекешфальва представляет собой вовсе не современную виллу, как мне показалось под впечатлением от внутреннего убранства, а самый что ни на есть настоящий помещичий дом, старинную дворянскую резиденцию вроде тех, которые мне доводилось встречать в Богемии во время маневров верхом на лошади. Из общего ряда выбивается лишь странная четырехугольная башня, по форме немного похожая на итальянскую campanile9; она нелепо торчит над двором, вероятно, оставшись от замка, который стоял здесь много лет назад. Я вспоминаю, что часто видел эту чудную вышку с учебного плаца, правда, тогда мне казалось, что это церковная башня какой-нибудь деревни; лишь сейчас я замечаю, что вместо обычного церковного шпиля у башни плоская крыша, которая наверняка служит солнечной террасой или обсерваторией. Но чем больше я убеждаюсь в феодальном, старинном происхождении этого благородного имения, тем более неловко себя чувствую: мне пришлось совершить свой нелепый дебют именно здесь, где внешним формам, несомненно, уделяют особое внимание!
Наконец, завершив свой обход замка и приблизившись к ажурным воротам с другой стороны, я делаю над собой усилие — прохожу по гравийной дорожке между подстриженными, ровными, как свечи, деревьями и стучу в дверь тяжелым бронзовым кольцом, которое, по старому обычаю, служит здесь вместо колокольчика. Сразу же появляется слуга — странно, он, кажется, вовсе не удивлен неожиданным визитом. Ни о чем не спросив и даже не взглянув на протянутую мной визитную карточку, он вежливо кланяется и приглашает меня подождать в гостиной, мол, дамы все еще в своей комнате, но скоро спустятся; похоже, меня все же примут. Как званого гостя, слуга ведет меня дальше; вновь испытывая чувство неловкости, я узнаю оклеенный красными обоями салон, где в тот раз были танцы, и горький вкус в горле напоминает мне о том, что рядом должна находиться та злополучная комната.
Правда, сначала раздвижная дверь кремового цвета с золотым орнаментом скрывает от меня место, где я выставил себя полнейшим дураком, но уже через несколько минут я слышу за этой дверью шум отодвигаемых стульев, приглушенную речь и осторожные шаги, которые выдают присутствие нескольких человек. Я решаю воспользоваться временем ожидания, чтобы рассмотреть салон: роскошная мебель в стиле Louis Seize10, справа и слева старинные гобелены, а между стеклянными дверями, ведущими прямо в сад, старые картины с видами наCanale Grande11и Piazza San Marco12, которые, хоть я и не разбираюсь в искусстве, кажутся мне весьма ценными. Признаться, я не очень внимательно рассматриваю эти шедевры, так как с напряженным вниманием прислушиваюсь к звукам в соседней комнате. Оттуда доносится тихий звон тарелок, скрип двери, затем, как мне кажется, я различаю неравномерный сухой стук костылей.
Наконец чья-то невидимая рука раздвигает дверь изнутри, и ко мне подходит Илона:
— Как мило, что вы пришли, господин лейтенант.
И вот уже она ведет меня в знакомую до боли комнату. В том же самом углу будуара, в том же кресле и за тем же столом малахитового цвета (зачем они повторяют эту настолько неприятную для меня ситуацию?) сидит парализованная девушка, прикрыв колени тяжелым белым меховым покрывалом, так что ее ноги остаются невидимыми — очевидно, чтобы не напоминать мне «о том». С несомненно продуманным дружелюбием Эдит улыбается мне из своего уголка. Но эти первые мгновения напоминают мне о нашей фатальной встрече, и по тому, как Эдит смущенно и слегка напряженно протягивает мне руку через стол, я сразу же замечаю, что она тоже думает «о том». Ни ей, ни мне не удается завязать разговор.
К счастью, Илона быстро прерывает удушливую тишину вопросом:
— Что мы можем предложить вам, господин лейтенант, — чай или кофе?
— О, как вам угодно, — отвечаю я.
— Но, господин лейтенант, у вас же наверняка есть предпочтения! Так что давайте не будем церемониться.
— В таком случае кофе, если можно, — решаюсь я и с радостью замечаю, что мой голос почти не дрожит.
Со стороны Илоны было чертовски хитро перекрыть первоначальное напряжение своим деловым вопросом. Но смуглая девушка тут же неосмотрительно покидает комнату, чтобы отдать приказ слуге, и наедине со своей жертвой я ощущаю себя неуютно. Сейчас самое время что-то сказать, àtout prix13 завязать разговор, но у меня в горле застрял комок, а в моем взгляде, должно быть, тоже присутствует некая неловкость — я не осмеливаюсь смотреть в сторону дивана, ведь в противном случае она может подумать, что я пялюсь на мех, прикрывающий ее хромые ноги. К счастью, она демонстрирует большее самообладание, чем я, и начинает беседу нервно-энергичным тоном, который в тот момент я слышу от нее в первый раз:
— Господин лейтенант, может, вы присядете? Подвиньте к себе вон то кресло. И почему бы вам не снять саблю — мы ведь стремимся сохранить мир. Можете положить ее на стол или на подоконник… куда вам угодно.
Я немного неловко придвигаю к себе кресло. Мне все еще не удается придать своему взгляду непринужденность. Но Эдит вновь энергично выручает меня:
— Я должна поблагодарить вас за прекрасные цветы… они действительно замечательные, вы только посмотрите, как красиво они смотрятся в вазе. А еще… еще… я должна извиниться перед вами за свою дурацкую несдержанность… То, как я себя тогда повела, просто ужасно… я всю ночь не могла заснуть, до того мне было стыдно. Вы ведь хотели как лучше… откуда вам было знать. Кроме того, — внезапно она начинает смеяться, нервно и резко, — вы угадали мои самые сокровенные мысли… я ведь специально уселась так, чтобы видеть танцующих, и когда вы подошли, больше всего на свете мне хотелось потанцевать с вами… я безумно люблю танцы. Я могу часами смотреть, как танцуют другие, — смотреть так пристально, что сама начинаю ощущать каждое их движение… правда, каждое движение. В такие мгновения мне кажется, что танцует не кто-то другой, а я сама — я кружусь, изгибаюсь, раскачиваюсь, веду партнера и позволяю ему вести себя в танце… Это звучит так глупо, что вы, наверное, мне не верите… Знаете, в детстве я очень любила танцевать, и у меня это хорошо получалось… и теперь мне всегда снятся танцы. Да, как бы глупо это ни звучало, я танцую во сне, и, возможно, для папы даже хорошо, что со мной… так случилось, иначе я наверняка сбежала бы из дома и стала бы танцовщицей… Ничто не будоражит меня так, как танцы, и я часто думаю, насколько это, должно быть, замечательно, — каждый вечер приковывать к себе внимание сотен людей; своим телом, своими движениями, всем своим существом волновать и покорять их сердца… это, должно быть, чудесно… Кстати, чтобы вы понимали, какая я глупая, я собираю фотографии всех великих балерин — Сааре, Павловой, Карсавиной. У меня есть их изображения во всех ролях и позах. Давайте я вам их покажу… они лежат в шкатулке… вон там, у камина… в китайской лакированной шкатулке… — От нетерпения в ее голосе внезапно слышится раздражение. — Нет-нет-нет, вон там слева, возле книг… эх, какой же вы нерасторопный… Да, это она (я наконец-то нашел и принес шкатулку) — видите, та фотография, что лежит сверху, моя любимая, на ней Павлова изображена в роли умирающего лебедя… Эх, если бы только я могла поехать, взглянуть на нее хоть разок, думаю, это был бы самый счастливый день в моей жизни.
Задняя дверь, через которую удалилась Илона, начинает тихо двигаться на петлях. Поспешно, словно застигнутая врасплох, Эдит захлопывает шкатулку с резким сухим щелчком. Ее следующие слова звучат как приказ:
— При них — ни слова! Ни слова о том, что я вам говорила!
Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.