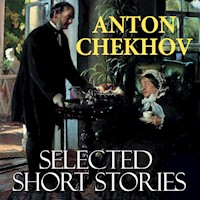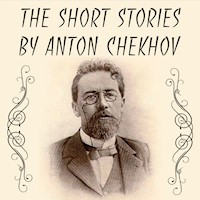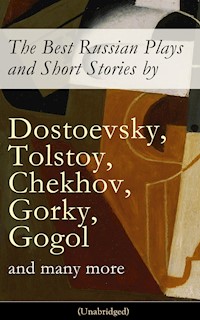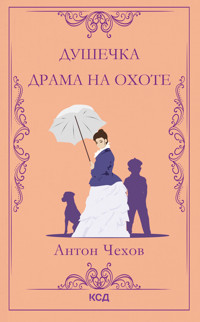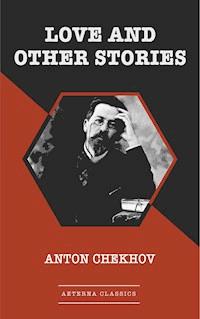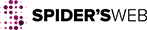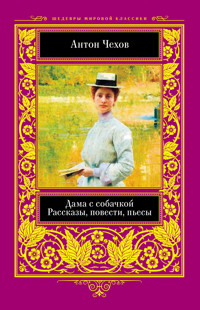
Oferta wyłącznie dla osób z aktywnym abonamentem Legimi. Uzyskujesz dostęp do książki na czas opłacania subskrypcji.
14,99 zł
DO 50% TANIEJ: JUŻ OD 7,59 ZŁ!
Aktywuj abonament i zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego, aby zamówić dowolny tytuł z Katalogu Klubowego nawet za pół ceny.
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: КСД
- Kategoria: Literatura obyczajowa i piękna•Literatura piękna
- Język: rosyjski
В сборник вошли знаковые произведения классика, занявшие важное место в золотом фонде мировой литературы. Чеховские персонажи похожи на нас: они любят и страдают, утопают в ежедневных заботах и рутине, но не забывают верить в счастье и отчаянно бросаются на его поиски. Чехов изображает человеческие отношения, сочетая юмор и лиризм, размышляет о быте, высоких материях и о том, как причудливо все это переплетается в душе человека.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 606
Podobne
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2018
ISBN 978-617-12-5855-6 (epub)
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства
Печатается по изданию:
Чехов А. П.Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; редкол. :Н. Ф. Бельчиков (гл. ред.), Д. Д. Благой, Г. А. Бялый, А. С. Мясников, Л. Д. Опульская (зам. гл. ред.), А. И. Ревякин, М. Б. Храпченко. — Москва : Наука, 1974 — 1983.
Дизайнер обложкиСергей Ткачев
В оформлении обложки использован фрагмент картиныДж. Гроссо«Портрет на свежем воздухе», 1902
Электронная версия создана по изданию:
Антон Павлович Чехов — видатний російський драматург і новеліст, визнаний майстер короткої прози. Його перу належать понад 900 творів (невеличких гумористичних оповідань, серйозних повістей, п’єс), багато з яких стали класикою світової літератури. Творча спадщина письменника становить понад 30 томів. Лев Толстой про прозу Чехова казав, що кожна деталь «або потрібна, або прекрасна».
До збірки увійшли знакові твори класика, які посіли важливе місце у золотому фонді світової літератури. Чеховські персонажі схожі на нас: вони кохають і страждають, потопають у щоденних турботах та рутині, але не забувають вірити у щастя і відчайдушно вирушають на його пошуки. Чехов зображує людські відносини, поєднуючи гумор і ліризм, розмірковує про побут, високі матерії та про те, як химерно все це переплітається в душі людини.
Чехов А. П.
Ч56 Дама с собачкой. Рассказы, повести, пьесы / Антон Павлович Чехов. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. — 416 с. — (Серия «Шедевры мировой классики», ISBN 978-617-12-4211-1).
ISBN 978-617-12-5856-3 (PDF)
ISBN 978-617-12-4683-6
Антон Павлович Чехов — великий русский драматург и новеллист, признанный мастер короткой прозы. Его перу принадлежат более 900 произведений (небольших юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из которых стали классикой мировой литературы. Творческое наследие писателя составляет свыше 30 томов. Лев Толстой о прозе Чехова говорил, что каждая деталь «либо нужна, либо прекрасна».
В сборник вошли знаковые произведения классика, занявшие важное место в золотом фонде мировой литературы. Чеховские персонажи похожи на нас: они любят и страдают, утопают в ежедневных заботах и рутине, но не забывают верить в счастье и отчаянно бросаются на его поиски. Чехов изображает человеческие отношения, сочетая юмор и лиризм, размышляет о быте, высоких материях и о том, как причудливо все это переплетается в душе человека.
УДК 821.161.1
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2018
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2018
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2018
Рассказы
Смерть чиновника
В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глазаподкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысинуи шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.
«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».
Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:
— Извините, вашество, я вас обрызгал… я нечаянно…
— Ничего, ничего…
— Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!
— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:
— Я вас обрызгал, вашество… Простите… Я ведь… не то чтобы…
— Ах, полноте… Я уж забыл, а вы всё о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.
«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»
Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.
— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!
— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.
На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.
— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, вашество, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…
— Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.
«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»
Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:
— Вашество! Ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!
Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»
Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.
— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с…, а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…
— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.
— Что-с? — спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса.
— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.
Толстый и тонкий
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д’оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от неговетчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывалахуденькая женщина с длинным подбородком — его жена,и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.
— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперьсюда переведен столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?
— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…
— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!
— Помилуйте… Что вы-с… — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
Хамелеон
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души…Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.
— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. —Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А… а!
Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.
— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городовой.
Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человекв расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передниеноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном наспине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.
— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?
— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть… Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете…
— Гм!.. Хорошо… — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная… Чья это собака, спрашиваю?
— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.
— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем… Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей!
— Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура и тяпни… Вздорный человек, ваше благородие!
— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом… А ежели я вру, так пущаймировой рассудит. У него в законе сказано… Нынче все равны…У меня у самого брат в жандармах… ежели хотите знать…
— Не рассуждать!
— Нет, это не генеральская… — глубокомысленно замечаетгородовой. — У генерала таких нет. У него всё больше легавые…
— Ты это верно знаешь?
— Верно, ваше благородие…
— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — чёрт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора…
— А может быть, и генеральская… — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано… Намедни во дворе у него такую видел.
— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.
— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
— Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?
— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая… Истребить, вот и всё.
— Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч…
— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и всё лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?
— В гости…
— Ишь ты, господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… цуцик этакий…
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным.
— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарнойплощади.
Злоумышленник
Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едвавидные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесаных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.
— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?
— Чаво?
— Так ли всё это было, как объясняет Акинфов?
— Знамо, было.
— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?
— Чаво?
— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?
— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.
— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?
— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем…
— Кто это — мы?
— Мы, народ… Климовские мужики, то есть.
— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!
— Отродясь не врал, а тут вру… — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру… — усмехается Денис. — Чёрт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет шилишпер… Эта рыба простор любит.
— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?
— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан…
— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?
— А то что же? Не в бабки ж играть!
— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю… гвоздиккакой-нибудь…
— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить… И тяжелая, и дыра есть.
— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!
— Избави Господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те Господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было… Спаси и помилуй, Царица Небесная… Что вы-с!
— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов?Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!
Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователяглаза.
— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил Господь, а тут крушение… людей убил… Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то… тьфу! гайка!
— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!
— Это мы понимаем… Мы ведь не все отвинчиваем… оставляем… Не без ума делаем … понимаем…
Денис зевает и крестит рот.
— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему…
— Чего изволите?
— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов… Я понимаю!
— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши… Господь знал, кому понятие давал… Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит… Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум… Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.
— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку… Эту в каком месте ты отвинтил и когда?
— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?
— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?
— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.
— С каким Митрофаном?
— С Митрофаном Петровым… Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять…
— Послушай… 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье… понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание… он приговаривается к ссылке в каторжные работы.
— Конечно, вы лучше знаете… Мы люди темные… нешто мы понимаем?
— Всё ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!
— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите… Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.
— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.
— Шилишпер у нас не водится… Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.
— Ну, молчи…
Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.
— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.
— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.
Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.
— То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить…
— Молчи, не мешай.
— В тюрьму… Было б за что, пошел бы, а то так… здорово живешь… За что? И не крал, кажись, и не дрался… А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте… Вы господина непременного члена спросите… Креста на нем нет, на старосте-то…
— Молчи!
— Я и так молчу… — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой… Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев…
— Ты мне мешаешь… Эй, Семен! — кричит следователь. —Увести его!
— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик… Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай… Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям… Надо судить умеючи, не зря… Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести…
Враги
В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кирилова скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок.
По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была высланаиз дому. Кирилов, как был, без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое, чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что, казалось, от появления этого лица в передней стало светлее…
— Доктор у себя? — быстро спросил вошедший.
— Я дома, — ответил Кирилов. — Что вам угодно?
— А, это вы? Очень рад! — обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках. — Очень… очень рад! Мы с вами знакомы!.. Я — Абогин… имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Оченьрад, что застал… Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной… У меня опасно заболела жена… И экипаж со мной…
По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее, детски-малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов.
— Я боялся не застать вас, — продолжал он. — Пока ехал к вам, исстрадался душой… Одевайтесь и едемте, ради бога… Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Папчинский, Александр Семенович, которого вы знаете… Поговорили мы… потом сели чай пить; вдруг жена вскрикивает, хватает себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее накровать и… я уж и нашатырным спиртом тер ей виски, и водой брызгал… лежит, как мертвая… Боюсь, что это аневризма… Поедемте… У нее и отец умер от аневризмы…
Кирилов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи.
Когда Абогин еще раз упомянул про Папчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово:
— Извините, я не могу ехать… Минут пять назад у меня… умер сын…
— Неужели? — прошептал Абогин, делая шаг назад. — Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день… удивительно! Какое совпадение… и как нарочно!
Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать: уходить или продолжать просить доктора.
— Послушайте, — горячо сказал он, хватая Кирилова за рукав, — я отлично понимаю ваше положение! Видит Бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь, кроме вас, здесь нет другого врача. Поедемте ради бога! Не за себя я прошу… Не я болен!
Наступило молчание. Кирилов повернулся спиной к Абогину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной, машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно, уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение, точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета, через шкапы с книгами, тянулась широкая полоса света; вместе с тяжелым, спертымзапахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню… Доктор опустилсяв кресло перед столом; минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню.
Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Всё до последней мелочи красноречиво говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и всё отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе склянок, коробок и баночек, и большая лампа на комоде ярко освещали всю комнату. На кровати, у самого окна, лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался, но открытые глаза его, казалось, с каждым мгновением всё более темнели и уходили вовнутрь черепа. Положив руки на его туловище и спрятав лицо в складки постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках! Припадала она к кровати всем своим существом, с силой и жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую наконецнашла для своего утомленного тела. Одеяла, тряпки, тазы,лужи на полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутыль с известковой водой, самый воздух, удушливый и тяжелый, — всё замерло и казалось погруженным в покой.
Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову набок, устремил взгляд на сына. Лицо его выражало равнодушие, только по росинкам, блестевшим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал.
Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то, в свое время, прошла их молодость, так теперь, вместе с этим мальчиком, уходило навсегда в вечность и их право иметь детей! Доктору 44 года, он уже сед и выглядит стариком; его поблекшей и больной жене 35 лет. Андрей был не только единственным, но и последним.
В противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут пять, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни прошел в маленькуюкомнату, наполовину занятую большим, широким диваном; отсюда прошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю.
Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо.
— Наконец-то! — вздохнул Абогин, берясь за ручку двери. — Едемте, пожалуйста!
Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил…
— Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзяехать! — сказал он, оживляясь. — Как странно!
— Доктор, я не истукан, отлично понимаю ваше положение… сочувствую вам! — сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая к своему кашне руку. — Но ведь я не за себя прошу… Умирает моя жена! Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться! Доктор, время дорого! Едемте, прошу вас!
— Ехать я не могу! — сказал с расстановкой Кирилови шагнул в залу.
Абогин пошел за ним и схватил его за рукав.
— У вас горе, я понимаю, но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасать жизнь человеческую! — продолжал он умолять, как нищий. — Эта жизнь выше всякого личного горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человеколюбия!
— Человеколюбие — палка о двух концах! — раздраженно сказал Кирилов. — Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня. И как странно, ей-богу! Я едва на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете! Никуда я сейчас не годен… не поеду ни за что, да и на кого я жену оставлю? Нет, нет…
Кирилов замахал кистями рук и попятился назад.
— И… и не просите! — продолжал он испуганно. — Извините меня… По XIII тому законов я обязан ехать, и вы имеете право тащить меня за шиворот… Извольте, тащите, но… я не годен… Даже говорить не в состоянии… Извините…
— Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном! —сказал Абогин, опять беря доктора за рукав. — Бог с ним,с XIII томом! Насиловать вашей воли я не имею никакого права. Хотите — поезжайте, не хотите — бог с вами, но я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина! Сейчас, вы говорите, у вас умер сын, кому же, как не вам, понять мой ужас?
Голос Абогина дрожал от волнения; в этой дрожи и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры и умирающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал, а потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы взять если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообщефраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив; потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной.
Кирилов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании и проч., доктор спросил угрюмо:
— Далеко ехать?
— Что-то около 13—14 верст. У меня отличные лошади, доктор! Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час!
Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом:
— Хорошо, едемте!
Он быстро, уже верною походкой пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке. Мелко семеня возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома.
На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной, узкой бородой и с орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь видна была его большая голова и маленькая, студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне белело только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами.
— Верьте, я сумею оценить ваше великодушие, — бормотал Абогин, подсаживая доктора в коляску. — Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно скорее! Пожалуйста!
Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль больничного двора; всюду было темно, только в глубине двора из чьего-то окна, сквозь палисадник, пробивался яркий свет, да три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки; тут пахло грибной сыростью и слышался шёпот деревьев; вороны, разбуженные шумом колес, закопошились в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а у Абогина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник; сверкнул угрюмо пруд, на котором спали большие черные тени, — и коляска покатила по гладкой равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсем умолк.
Почти всю дорогу Кирилов и Абогин молчали. Только раз Абогин глубоко вздохнул и пробормотал:
— Мучительное состояние! Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их.
И когда коляска тихо переезжала реку, Кирилов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды, и задвигался.
— Послушайте, отпустите меня, — сказал он тоскливо. — Я к вам потом приеду. Мне бы только фельдшера к жене послать. Ведь она одна!
Абогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег и покатила далее. Кирилов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади, сквозь скудный свет звезд, видна была дорога и исчезавшие в потемках прибрежные ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо; далеко на ней там и сям, вероятно, на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел.
Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное; земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу…
Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он двигался, вскакивал, вглядывался через плечо кучера вперед. А когда, наконец, коляска остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой холстиной, и когда он поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание.
— Если что случится, то… я не переживу, — сказал он, входя с доктором в переднюю и в волнении потирая руки. — Но не слышно суматохи, значит, пока еще благополучно, — прибавил он, вслушиваясь в тишину.
В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего времени в потемках, могли разглядеть друг друга. Докторбыл высок, сутуловат, одет неряшливо и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесаная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной,узкой бороде, сквозь которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные, угловатые манеры — всё это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же изображал из себя нечто другое. Это был плотный, солидный блондин, с большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одетый изящно, по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил он, держа прямо голову и выпятив вперед грудь, говорил приятным баритоном, и в манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже бледность и детский страх, с каким он, раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.
— Никого нет и ничего не слышно, — сказал он, идя по лестнице. — Суматохи нет. Дай-то бог!
Он провел доктора через переднюю в большую залу, где темнел черный рояль и висела люстра в белом чехле; отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную и красивую гостиную, полную приятного розового полумрака.
— Ну, посидите тут, доктор, — сказал Абогин, — а я… сейчас. Я пойду погляжу и предупрежу.
Кирилов остался один. Роскошь гостиной, приятный полумрак и само его присутствие в чужом, незнакомом доме, имевшее характер приключения, по-видимому, не трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкойруки. Только мельком увидел он ярко-красный абажур, футлярот виолончели, да, покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам Абогин.
Было тихо… Где-то далеко в соседних комнатах кто-то громко произнес звук «а!», прозвенела стеклянная дверь, вероятно, шкапа, и опять всё стихло. Подождав минут пять, Кирилов перестал оглядывать свои руки и поднял глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогин.
У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица, глаза же как будто смеялись от боли…
Абогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной, согнулся, простонал и потряс кулаками.
— Обманула! — крикнул он, сильно напирая на слогну. — Обманула! Ушла! Заболела и услала меня за доктором для того только, чтобы бежать с этим шутом Папчинским! Боже мой!
Абогин тяжело шагнул к доктору, протянул к его лицу свои белые мягкие кулаки и, потрясая ими, продолжал вопить:
— Ушла!! Обманула! Ну, к чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! К чему этот грязный, шулерский фокус, эта дьявольская, змеиная игра? Что я ей сделал? Ушла!
Слезы брызнули у него из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по гостиной. Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил на льва. На равнодушном лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и оглядел Абогина.
— Позвольте, где же больная? — спросил он.
— Больная! Больная! — крикнул Абогин, смеясь, плача и всё еще потрясая кулаками. — Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гаже чего не придумал бы, кажется, сам сатана! Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутом, тупым клоуном, альфонсом! О боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!
Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налево вместе с челюстью.
— Позвольте, как же это? — спросил он, с любопытством оглядываясь. — У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом… сам я едва стою на ногах, три ночи не спал… и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи! Не… не понимаю!
Абогин разжал один кулак, швырнул на пол скомканнуюзаписку и наступил на нее, как на насекомое, которое хочется раздавить.
— И я не видел… не понимал! — говорил он сквозь сжатые зубы, потрясая около своего лица одним кулаком и с таким выражением, как будто ему наступили на мозоль. — Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете! Зачем в карете? И я не видел! Колпак!
— Не… не понимаю! — бормотал доктор. — Ведь это что же такое! Ведь это глумление над личностью, издевательство над человеческими страданиями! Это что-то невозможное… первый раз в жизни вижу!
С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело оскорбили, доктор пожал плечами, развел руками и, не зная, что говорить, что делать, в изнеможении опустился в кресло.
— Ну, разлюбила, полюбила другого — бог с тобой, но к чему же обман, к чему этот подлый, изменнический фортель? — говорил плачущим голосом Абогин. — К чему? И за что? Что я тебе сделал? Послушайте, доктор, — горячо сказал он, подходя к Кирилову. — Вы были невольным свидетелем моего несчастья, и я не стану скрывать от вас правды. Клянусь вам, что я любил эту женщину, любил набожно, как раб! Для нее я пожертвовал всем: поссорился с родней, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре… Ни разу я не поглядел на нее косо… не подавал никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не любишь, так скажи прямо, честно, тем более, что знаешь мои взгляды на этот счет…
Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренно изливал перед доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разоблачал свои семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что наконец эти тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час, другой, вылей свою душу, и, несомненно, ему стало бы легче. Кто знает, выслушай его доктор, посочувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей… Но случилось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашенки, лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово:
— Зачем вы всё это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! — крикнул он и стукнул кулаком по столу. — Не нужны мне ваши пошлые тайны, чёрт бы их взял! Не смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?
Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился нанего.
— Зачем вы меня сюда привезли? — продолжал доктор, тряся бородой. — Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйтесь гуманными идеями,играйте (доктор покосился на футляр с виолончелью) —играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью! Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания!
— Позвольте, что это всё значит? — спросил Абогин, краснея.
— А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнетдухами и проституцией, своими лакеями и моветонами1, ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека,который страдает, бутафорскую вещь!
— Как вы смеете говорить мне это? — спросил тихо Абогин, и его лицо опять запрыгало и на этот раз уже ясно от гнева.
— Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привезти меня сюда выслушивать пошлости? — крикнул доктор и опять стукнул кулаком по столу. — Кто вам дал право так издеваться над чужим горем?
— Вы с ума сошли! — крикнул Абогин. — Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и… и…
— Несчастлив, — презрительно ухмыльнулся доктор. — Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив.Ничтожные люди!
— Милостивый государь, вы забываетесь! — взвизгнулАбогин. — За такие слова… бьют! Понимаете?
Абогин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол.
— Вот вам за ваш визит! — сказал он, шевеля ноздрями. — Вам заплачено!
— Не смеете вы предлагать мне деньги! — крикнул доктор и смахнул со стола на пол бумажки. — За оскорбление деньгами не платят!
Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, проделывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной.
— Извольте отправить меня домой! — крикнул доктор, задыхаясь.
Абогин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и сердито швырнул колокольчик на пол; тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, точно предсмертный стон. Явился лакей.
— Где вы попрятались, чёрт бы вас взял?! — набросился на него хозяин, сжимая кулаки. — Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой! — крикнул он, когда лакей повернулся уходить. — Завтра чтоб ни одного предателя не оставалось в доме! Все вон! Нанимаю новых! Гадины!
В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражение сытости и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, изящно встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага… Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество.
Когда немного погодя доктор сел в коляску и поехал, глаза его всё еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали около звезд. Карета с красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал Абогин протестовать, делать глупости…
Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского, и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.
Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.
1Здесь: людьми дурного тона (франц. mauvais ton).
Студент
Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодныйпронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.
Иван Великопольский, студент духовной академии, сындьячка, возвращаясь с тяги домой, шел всё время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.
Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.
— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя к костру. — Здравствуйте!
Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.
— Не узнала, бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть.
Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившаякогда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее всё время не сходила мягкая, степеннаяулыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.
— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!
Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:
— Небось, была на двенадцати евангелиях?
— Была, — ответила Василиса.
— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били…
Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.
— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисусастали допрашивать, а работники тем временем развели средидвора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания…
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.
Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опятьнаступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.
Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение…
Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.
И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.
А когда он переправлялся на пароме через реку и потом,поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад,где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думало том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главноев человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости,здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.
Дом с мезонином
(Рассказ художника)
I
Это было 6—7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и всё жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.
Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал всё, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.
Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.
А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая — ей было 17—18 лет, не больше — тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английскии сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.
Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.
— Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, — сказала она Белокурову, подавая ему руку. — Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.
Я поклонился.
Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.
— Интересная семья, — сказал Белокуров. — Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.
Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.
— Нехорошо, Петр Петрович, — говорила она укоризненно. — Нехорошо. Стыдно.
— Правда, Лида, правда, — соглашалась мать. — Нехорошо.
— Весь наш уезд находится в руках Балагина, — продолжала Лида, обращаясь ко мне. — Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!
Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла такмисс, свою гувернантку. Всё время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя… Это крёстный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.
Мы играли в крокет и lown-tennis, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили вы, и всё мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и всё дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко — быть может оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.
Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.