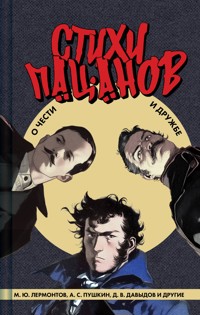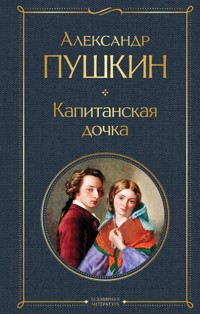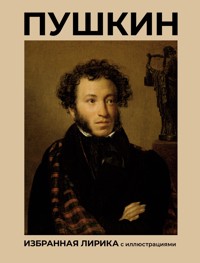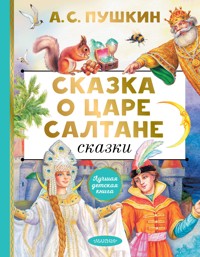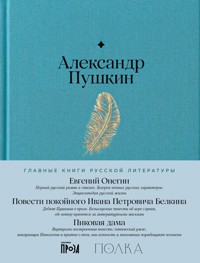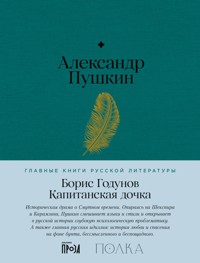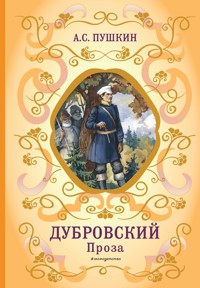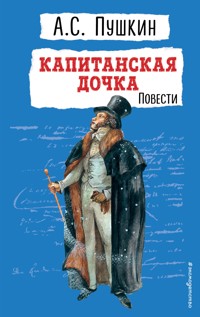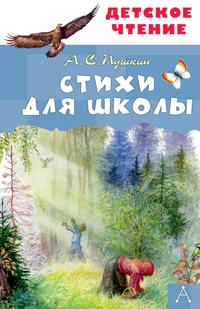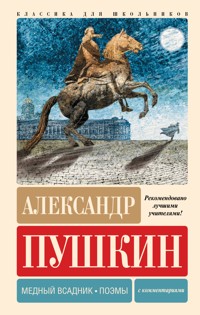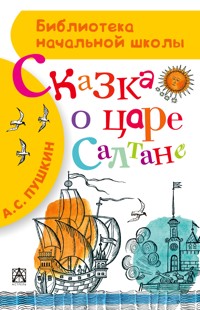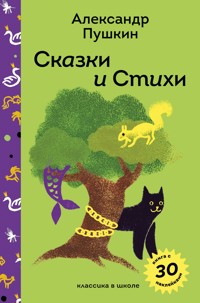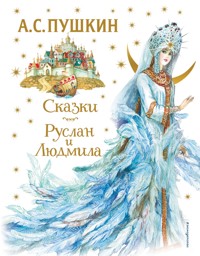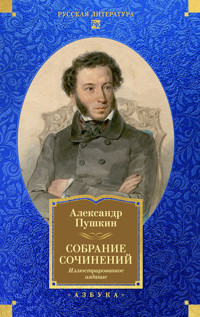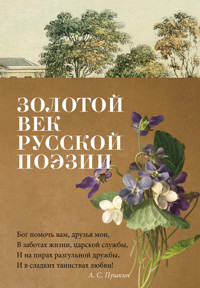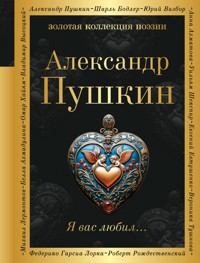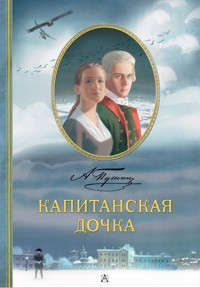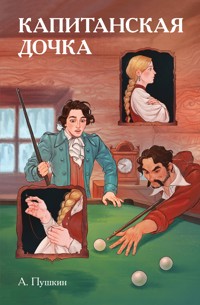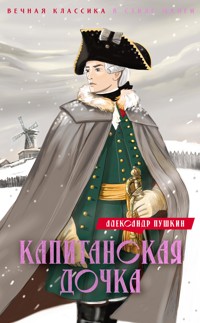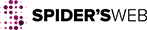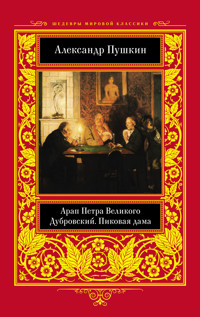
Oferta wyłącznie dla osób z aktywnym abonamentem Legimi. Uzyskujesz dostęp do książki na czas opłacania subskrypcji.
14,99 zł
DO 50% TANIEJ: JUŻ OD 7,59 ZŁ!
Aktywuj abonament i zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego, aby zamówić dowolny tytuł z Katalogu Klubowego nawet za pół ceny.
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: КСД
- Kategoria: Literatura obyczajowa i piękna•Literatura piękna
- Język: rosyjski
Знаменитый «Евгений Онегин», исторический роман «Арап Петра Великого», захватывающий «Дубровский», мистическая повесть «Пиковая дама», сборник «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и прославленная «Капитанская дочка» — непревзойденные шедевры мировой классики!
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 553
Podobne
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2018
ISBN 978-617-12-5587-6 (epub)
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства
Электронная версия создана по изданию:
Печатается по изданиям:
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Текст проверен Б. В. Томашевским. — 4-е изд. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977 — 1979. Т. 6. Художественная проза. 1978;
Пушкин А. С. Собр. соч.: В 5 т. СПб.: Библиополис, 1994. Т. 4.: Романы и повести
ПредисловиеН. О. Лернера
Дизайнер обложкиСергей Ткачев
В оформлении обложки использован фрагмент картины В. М. Васнецова «Преферанс», 1879
Александр Сергеевич Пушкин — выдающийся русский поэт, чьи гениальные произведения вошли в золотой фонд мировой классики, основоположник новой русской литературы. Его книги, сборники, публикации переведены на множество языков мира. Спустя 200 лет поэзия и проза Пушкина остается актуальной и востребованной. В этой книге собраны самые известные произведения блестящего поэта, драматурга и прозаика!
Знаменитый «Евгений Онегин», исторический роман «Арап Петра Великого», захватывающий «Дубровский», мистическая повесть «Пиковая дама», сборник «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и прославленная «Капитанская дочка» — непревзойденные шедевры мировой классики!
Пушкин А. C.
П91 Арап Петра Великого. Дубровский. Пиковая дама / Александр Сергеевич Пушкин. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,2018. — 416 с. — (Серия«Шедевры мировой классики», ISBN 978-617-12-4211-1).
ISBN 978-617-12-4681-2
Александр Сергеевич Пушкин — выдающийся русский поэт, чьи гениальные произведения вошли в золотой фонд мировой классики, основоположник новой русской литературы. Его книги, сборники, публикации переведены на множество языков мира. Спустя 200 лет поэзия и проза Пушкина остается актуальной и востребованной. В этой книге собраны самые известные произведения блестящего поэта, драматурга и прозаика!
Знаменитый «Евгений Онегин», исторический роман «Арап Петра Великого», захватывающий «Дубровский», мистическая повесть «Пиковая дама», сборник «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и прославленная «Капитанская дочка» — непревзойденные шедевры мировой классики!
УДК 821.161.1
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2011, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2018
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2018
Проза Пушкина1
Первые прозаические попытки Пушкина остались незаконченными. Самая ранняя сохранилась в черновой тетради, начатой еще в лицее. Эта попытка написать рассказ, по-видимому, из жизни той светской золотой молодежи, среди которой очутился поэт по выходе из лицея, не пошла дальше первой страницы. Она начинается словами: «У гусара ** было дружеское собрание»… и чрезвычайно напоминает своим тоном и отчасти даже содержанием начало написанной пятнадцать лет спустя «Пиковой дамы». В ней, вероятно, должны были фигурировать тогдашние друзья Пушкина, веселые собутыльники, собиравшиеся вокруг Зеленой Лампы, «красотки молодые, которых позднею порой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой», игроки и тому подобные представители круга прожигателей жизни, к которому Пушкин всегда питал маленькую слабость. В этой среде встречались интересные и своеобразные характеры, но для бытовой повести Пушкин был тогда еще слишком молод. Нужно было сначала значительно отдалиться и от данной среды, и от эпохи, и самому больше развиться и приобрести больше опыта. Людей этого типа мы еще встретим в задуманном Пушкиным «Русском Пеламе».
За перо прозаика Пушкин взялся снова лишь через восемь лет (1827 г.). На этот раз его увлекла мысль написать исторический роман. Еще в третьей главе «Онегина» он обещал написать роман и при этом довольно определенно указал на его историческое содержание:
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.
Перескажу простые речи
Отца иль дяди старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья;
Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец…
В собственном семействе поэт нашел предания, которыми всегда гордился и дорожил; их историческая, бытовая и романическая сторона очень занимала его, и он любил «толки слушать о родне, об отдаленной старине» и признавался в своей «безвредной слабости»:
Могучих предков правнук бедный,
Люблю встречать их имена
В двух-трех строках Карамзина…
Автобиографию, от которой сохранилось лишь несколько страниц, он начал рассказом о своих предках — Пушкиных и Ганнибалах. Особенно привлекал воображение поэта его прадед — арап царя Петра I, крестник этого государя; Пушкина пленяла и оригинальная личность царского арапа, и своеобразие его судьбы, забросившей арапа из тропической Африки в далекую Россию. Пушкин любил называть Африку «своей», а себя — африканцем; происхождение от арапа оставило свои следы на наружности поэта. Семейные воспоминания об арапе Абраме Петровиче как-то лично связывали Пушкина с любимой им эпохой Петра, на изучение которой натолкнул его прежде всего интерес к оригинальному прадеду. Задумав исторический роман, поэт остановился на петровской эпохе и героем избрал арапа Ганнибала. «Бог даст, — говорил он друзьям, — мы напишем исторический роман, на который и другие полюбуются»2. Исполнение этого обещания нужно видеть в «Капитанской дочке», а не в «Арапе Петра Великого», которого он вдруг оставил и больше к нему не возвращался. Пушкин написал только шесть глав и начало седьмой, а вещь была задумана, по-видимому, крупная, так что мы имеем лишь начало повести, из которого даже трудно вывести более или менее цельную фабулу. Одному приятелю Пушкин говорил, что «главная завязка этого романа — неверность жены арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь»3. По всей вероятности, к роману должна была относиться сложенная Пушкиным песенка4, которую, может быть, поэт намеревался вложить в уста девушек-наперсниц боярышни, выдаваемой по царскому приказу за ненавистного арапа. В повести намечен был, по-видимому, и разрушитель семейного спокойствия арапа, однако, не выведенный еще на сцену и лишь упоминаемый два-три раза. Не имея цельного, законченного произведения, мы должны довольствоваться частностями, которые сами по себе великолепны. Мастерски изображены в повести французское общество эпохи Регентства и русское общество времен Петра, разделившееся на два лагеря — «новых людей», сторонников преобразователя, и приверженцев отживающего быта, втайне копящих глубокое недовольство реформами. Великолепны картины петровского быта — обед у знатного боярина, ассамблея. Действует в повести и гениальный царь, которого Пушкин и после изображал не раз с тем же поклонением и тою же любовью. Белинский, вообще отнесшийся к пушкинской прозе довольно холодно и далеко не с тем проникновенным пониманием, которое обнаружил в разборе поэзии Пушкина, в своем знаменитом обзоре пушкинского творчества недаром жалел, что «Арап Петра Великого» был заброшен автором. «Будь этот роман, — справедливо говорит великий критик, — кончен так же хорошо, как начат, мы имели бы превосходный исторический русский роман, изображающий нравы величайшей эпохи русской истории. Не понимаем, почему Пушкин не продолжал романа. Он имел время кончить его. Эти семь глав неоконченного романа, из которых одна5 упредила все исторические романы Загоскина и Лажечникова, неизмеримо выше и лучше всякого исторического русского романа, порознь взятого, и всех их вместе взятых». Почти одновременно с «Арапом Петра Великого» Пушкин набросал программу драмы илиповести из почти той же эпохи, из времен правительницы Софьи, где, вероятно, на фоне великих исторических событий должна была разыгрываться история двух влюбленных6; программа так и осталась в области предположений и не была осуществлена.
Спустя три года Пушкин появляется в облике добродушного рассказчика, смиренного Белкина (1830 г.), кроткого помещика, берущего со своих крепостных большую часть оброка орехами и брусникой. Белкин, прототип лермонтовского Максима Максимыча, — тип доброго, неглупого обывателя, с бесхитростной,незлобивой душой. Но вместе с тем Белкин наивен и малообразован. Его-то глазами и хотел взглянуть Пушкин на жизнь. Не мудрствуя лукаво, Белкин записывает то, что слышал «от разных особ». «Рассказам покойного Ивана Петровича Белкина» предпослано вместо предисловия письмо к «издателю» соседа покойного, отчасти такого же Белкина. «И моя деревня где-то упомянута (в рассказах), — пишет сосед, — сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения», и в заключение просит издателя: «в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать, ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным». Приведя это письмо, «издатель» выразил надежду, что публика оценит его «искренность и добродушие».
Это можно сказать и обо всех рассказах Белкина, смиренное лицо которого проглядывает сквозь незатейливую ткань повествования. (Впрочем, нужно заметить, что тон не всюду одинаково выдержан по отношению к Белкину). Ценность содержания всех пяти рассказов чрезвычайно неравномерна.Рядом со слабыми и маловероятными анекдотами «Барышня-крестьянка» и «Метель» мы встречаем потрясающий рассказ — «Станционный смотритель»; так же велика разница между «Выстрелом» и «Гробовщиком». Но неизменно все рассказы проникнуты тонким, добрым юмором и богаты превосходными частностями, изумительными картинами быта. Жизнь дуреющих от скуки офицеров в глухом местечке, где нет «ни одного открытого дома, ни одной невесты»; бал у сапожника Готлиба Шульца, на который дочери гробовщика отправляются в самом парадном виде — желтых шляпках и красных башмаках, и для которого городовой Юрко покидает свою будку с белыми колонками дорического ордера; убогая комната забитого станционного смотрителя с похождениями блудного сына на стене; англомания чудака помещика, у которого никак «на чужой манер хлеб русский не родится», и который закладывает имение для поддержки английского сада; безмятежная, чистая жизнь «уездной барышни»; напускное «разочарование» жизнерадостного юноши, носящего на пальце черное кольцо с мертвой головою, — таких бытовых черт и картин в рассказах немало. На них лежит печать той простоты, которая дается только великому искусству, и всегдашнего, неизменного бодрого и светлого пушкинского мироотношения.
Кроткая, тихая душа Белкина была избрана поэтом как лучшее вместилище этой доброты, простоты и правдивости.
Мнения критики о повестях чрезвычайно разноречивы. Белинский отнесся к ним очень несправедливо. Впервые он писал о них в 1835 г.7, находясь в поре «абстрактного героизма», под влиянием которого не мог оценить их художественную простоту. Он увидел в них слабо мерцающий закат пушкинского гения, его «бесплодную, грязную и туманную» осень. «Правда, — писал критик, — эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать; но они — не художественные создания, а просто сказки и побасенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга, они не будут тревожить его сна: нет, после них можно задать лихую высыпку. Будь эти повести первое произведение какого-нибудь юноши, этот юноша обратил бы на себя внимание нашей публики; но как произведение Пушкина — осень, холодная, дождливая осень, после прекрасной, роскошной, благоуханной весны, словом, прозаические бредни, фламандской школы пестрый вздор! Странное дело — очарование имен! Прочтите вы эту книгу, не зная, кем она написана, — и вы будете в полном удовольствии; но взгляните на заглавие — и ваше живое удовольствие превратится в горькое неудовольствие…»
Но еще более резкий образчик критической аберрации представляет собою позднейший отзыв Белинского о рассказах Белкина: «хотя и нельзя сказать, чтоб в них уже вовсе не было ничего хорошего, все-таки эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то вроде повестей Карамзина, с той только разницей, что повести Карамзина имели для своего времени великое значение, а повести Белкина были ниже своего времени». Этот отзыв тем страннее, что произнесен Белинским в том фазисе, когда великий критик умел так тонко понять значение нарождавшейся народнической литературы и гениально определил элементы натуральной школы.
Насколько Белинский недооценил рассказов Белкина, настолько их значение переоценил другой великий критик, Аполлон Григорьев, который видит в Белкине воплощение русского национального духа, противовес чуждому, «хищному», «тревожному» началу, — «голос за простое и доброе, поднявшийся в душах наших против ложного и хищного», «первое выражение критической стороны нашей души, очнувшейся от сна, в котором грезились ей различные миры». Развивая свой оригинальный взгляд, критик совсем упустил из вида ограниченность и наивность Белкина, при которых далеко до полного выражения национальной сущности в том понимании, какое придает ей Григорьев. Преувеличивая значение повестей, Григорьев находил в «Станционном смотрителе» «зерно всей натуральной школы». Это уже слишком, — но глубокий натурализм повестей Григорьев почувствовал верно. Не принадлежа, правда, к лучшим цветам пушкинского венка, рассказы Белкина — умная, светлая книга, будящая хорошие чувства. Поразительна простота приемов, с которыми изображен целый ряд картин, то печальных, то идиллических; на всем в них лежит мягкий колорит теплого, облачного, но ясного дня ранней осени; все рассказано легко и бесхитростно; в этом отношении особенно выделяется «Гробовщик», где непринужденно-свободно смешаны реализм и фантастика.
Простой и необразованный Белкин так полюбился Пушкину, что поэт не устоял пред искушением попробовать взглянуть на историю очами Белкина, которого вообще тянет к литературе, и который так благоговеет перед ее служителями, что его потрясает случайная встреча с Булгариным. Белкин смело берется за историю и пишет «исследование» о забытом Богом и людьми селе Горюхине, пишет по «источникам», которые находит в завалявшихся на чердаке старинных календарях с отметками значительных событий, вроде: «4 мая снег, Гришка за грубость бит, 6-го бурая корова пала», в летописи горюхинского дьячка, отличающейся «глубокомыслием и велеречием необыкновенным», в «изустных преданиях», которых особенно много сообщила историку однастарая баба, и в ревизских сказках, сохранивших «замечания прежних старост касательно нравственности и состояния крестьян». На этом богатом материале строится по всем правилам искусства историческое исследование, начинающееся с яиц Леды — с того таинственного мрака неизвестности, которым покрыто возникновение Горюхина. Тон рассказа серьезен и торжественно-важен, слог соответственно высокопарен. Историк не простой компилятор, не сухой архивный исследователь, но художник, мыслитель и моралист. Он очевидно подражает Карамзину. Все же «История» вовсе не пародия ни на Карамзина, ни на Полевого и, судя по ее добродушному тону, не историческая сатира. Это просто — шутка, умная, добрая шутка, но в ней, как заметил Белинский, «есть и серьезные вещи». Если такие места, как: «одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения», или выспреннее повествование о целомудрии горюхинских баб, которые «на покушение дерзновенного отвечают сурово и выразительно», просто смешны, то в рассказе о жестоком правлении приказчика, когда «базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли», чувствуется ужас крепостничества. Отношение Белкина к повествованию не лишено иронии человека, сознающего свое превосходство над изображаемой средою, но Пушкин с ним не смешивает себя; поэт стоит немного в стороне и глядит и на историка, и на изучаемую им жизнь с благодушным юмором. Художественным методом Пушкина воспользовался Салтыков в «Истории одного города», но воспользовался как яркий сатирик, вложив в свой рассказ глубокую душевную боль.
Приблизительно около того же времени или несколько ранее Пушкин взялся за опыт эпистолярного романа, остановившийся в самом начале. В нем переписываются две приятельницы и два друга. Пушкин успел набросать довольно интересную фигуру одной из героинь, Лизы, девушки незаурядной, в которой виден выдающийся ум и характер. Эти черты, впрочем, не совсем пропали, и Пушкин воспользовался ими в начатом в 1831 г. и также неоконченном романе «Рославлев», поводом к которому послужил недавно вышедший роман Загоскина, носящий то же название. Загоскин, писавший в духе квасного патриотизма, жестоко казнит свою героиню, Полину, русскую девушку, которая в черный год Отечественной войныполюбила пленного француза. Эта грубая фальшь оченьне понравилась Пушкину. «В „Рославлеве“ нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении», — писал Пушкину Вяземский. Поэт отвечал, что к оценке, данной роману Вяземским, «можно прибавить еще три строчки: что положения, хотя и натянутые, занимательны, что разговоры, хотя и ложные, живы, и что все можно прочесть с удовольствием», т. е. отметил и фальшь Загоскина, и внешние достоинства его романа. В противовес Загоскину Пушкин начал своего «Рославлева», в котором прекрасно изобразил русское общество 12-го года и намеревался горячо вступиться за попираемое право человеческой души любить, когда любится. Роман должен был излагаться, что очень характерно, от лица женщины: «Я буду защитницею тени», — говорит она. Героиня романа, за которой оставлено имя Полины, — человек недюжинный; она умна, европейски образованна, отличается скромным, не шумящим патриотизмом; она живет не одним только сердцем, но и умом, не довольствуется жалкой жизнью полузатворницы, привязанной к скудному очагуВесты, и мечтает о более широкой сфере для женщины.Юные, нерастраченные силы души кипят в ней: «…я знаю, — говорит она, — какое влияние женщина может иметь на мнение общественное. Я не признаю уничижения, к которому принуждают нас», и, называя имена Шарлотты Кордэ, Марфы Посадницы, княгини Дашковой, с юношеской самоуверенностью восклицает: «чем я ниже их? Уж верно не смелостию души и решительностью». Полина — одна из первых пионерок русского женского движения, старшая сестра декабристок, мать тургеневской Елены. На сером фоне общества «обезьян просвещения» эта яркая личность выделяется резко и гордо. «Рославлев» впервые в русской литературе поднял речь о правах женщины и впервые показал женщину-гражданку.
Оставив «Рославлева», Пушкин несколько раз принимался в начале 30-х годов за прозу, но ничего крупного не написал, и дело у него дальше начала задуманных произведений не пошло. Ему хотелось написать роман из жизни столичного большого света — мысль, которую он пытался осуществить и позднее, в «Пиковой даме» и «Египетских ночах». Один отрывок, начинающийся словами: «В одно из первых чисел апреля…», обращает на себя внимание языком, удивительно чистым и народным, которым говорят две московские барыни, тем превосходным «языком просвирней», к которому Пушкин советовал прислушиваться, в котором есть грубоватая резкость, но нет ни тени тривиальности8. Гораздо значительнее по содержанию начало другой задуманной повести: «Гости съезжались на дачу»… В нем уже намечен интересный характер главного героя, Минского, в котором, как в Чарском из «Египетских ночей», можно узнать некоторые черты самого автора, и который высказывает любимые мысли Пушкина, неоднократно им повторявшиеся, о русском обществе и об аристократизме. Этих мыслей отчасти касается Пушкин в другом, тоже неотделанном наброске и тоже из светской жизни (может быть, обе попытки относятся к одному замыслу): «В Коломне, на углу маленькой площади…» Быть может потому, что в задуманную повесть из жизни света Пушкин влагал свои любимые взгляды на русское общество и боялся выйти из пределов романа, чтобы не впасть в тон публициста, — ни одна из этих попыток не была довершена, и поэт обратился к тому жанру, к которому его давно тянуло, — к историческому роману.
Мысль написать повесть из германской жизни XVIII века, канвой для которой должна была служить потрясающая драма двух несчастных женщин, Марии Шонинг и Анны Гарлин, также была им оставлена, и он занялся русским XVIII веком. На этот раз ему удалось написать свое первое крупное прозаическое произведение — роман «Дубровский» (1832 г.).
Начатый в октябре 1832 г., «Дубровский» в феврале 1833 г. был уже закончен; судя по тому, что пометы отдельных глав (всех их девятнадцать) разнятся одна от другой на несколько дней, и по тому, что весь роман занял три с половиной месяца, он писался быстро и легко. Любовная интрига романа незамысловата и относительно слаба; героиня, которая обещает ждать любимого ею человека и, не дождавшись, венчается по родительскому приказу с нелюбимым, повторяет герою слова Татьяны Онегину: «Князь — мой муж… теперь поздно». Герой, очерченный тоже довольно бледно, становится разбойником, потому что убеждается, что в развращенном обществе, где продажны суд и закон, честному гражданину нечего рассчитывать на государственную защиту, а приходится опереться на собственную силу и храбрость, и объявляет обществу войну, которую ведет довольно странно и непоследовательно, вымещая свое горе на неповинных людях и оставляя в покое первого своего врага — виновника своего несчастья, в дочь которого влюбился Дубровский. Плохой борец за попранную справедливость и плохой любовник, упускающий любимую девушку и оставляющий без заслуженного наказания врага, Дубровский — фигура бесцветная, несмотря на то, что автор ставит его в очень выгодные для романического героя положения. Зато гораздо сильнее социальная и бытовая сторона романа. Неправосудие и самодурство российского феодала изображены верно и художественно.
История создания «Дубровского» показывает, какой «взыскательный художник» был Пушкин. Желая избегнуть ошибок в изложении судебного процесса, посредством которого богатый сосед оттягал у бедного имение, Пушкин пользовался советами одного московского дельца, ловкого юриста-практика; в егобумагах сохранилась заметка, относящаяся к ходу гражданскогопроцесса9. Гениально написанные типические портреты людей XVIII века значительно превосходят достоинством самый роман как таковой. Троекуров, — говорит В. О. Ключевский, чутко определяя эти типы, — постаревший петиметр в отставке, приехавший в деревню дурить на досуге… Троекуровы родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по захолустьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Аннах. Это — миниатюрные провинциальные пародии временщиков столицы, которых превосходно характеризовал гр. Н. Панин, назвав «припадочными людьми».
«Как увидишь его, — говорил местный дьячок, — страх и ужас! А спина-то сама так и гнется, так и гнется». Особенно удался Пушкину в «Дубровском» князь Верейский, достойный зять Троекурова. Это — настоящее создание екатерининской эпохи, цветок, выросший на почве закона о вольности дворянства и обрызганный каплями росы вольтерьянского просвещения. Князь Верейский — едва ли не самый ранний экземпляр новой разновидности нашего типа, которая развелась очень быстро. Подобными ему людьми до скуки переполняется высшее русское общество с конца царствования Екатерины. За границей они растрачивали богатый дедовский и отцовский запас нервов и звонкой наличности и возвращались в Россию лечиться и платить долги. Князь Верейский жил за морем и, приехав умирать в Россию, напрасно пытался оживить угасшие силы и затеями сельской роскоши, и расцветшей на сельском приволье дочерью Троекурова… Отсюда «непрестанная» скука Верейского, которая с его легкой руки стала непременной особенностью дальнейших видов этого типа. Дубровский-отец — лицо любопытное по своей литературной судьбе. Это — любимое некомическое лицо нашей комедии XVIII в., ее Правдин, Стародум, или как там еще оно называлось. Но оно никогда не удавалось ей. Это потому, что екатерининская комедия хотела изобразить в нем человека старого петровского покроя, а при Екатерине II такой покрой уже выводился. Пушкин отметил его вскользь двумя-тремя чертами, и, однако, он вышел у него живее и правдивее, чем в комедии XVIII века. Дубровский-сын — другой полюс века и вместе его отрицание. В нем заметны уже черты мягкого, благородного, романически протестующего и горько обманутого судьбой александровца, члена Союза Благоденствия»10.
«Дубровский» как будто окрылил Пушкина, и за ним последовал самый крупный роман нашего поэта, венец пушкинской прозы — «Капитанская дочка»11, произведение, не имеющее на себе ни единого пятна, во всех отношениях выдержанное и безупречное. Объезжая места, где шестьдесят лет назад развертывались грозные происшествия пугачевщины и собирая материалы для изучения этой эпохи, Пушкин с головою окунулся в нее. В изустных рассказах, в сухих архивных документах он нашел такие события и такие характеры, что не увлечься ими художнику было невозможно.
Перед поэтом прошла целая галерея русских людей XVIII века: и выдвинутый стихией бунта глава народного движения, и скромные, молчаливые герои долга, и малодушные люди, рабы успеха и игралища случая. Грозные картины русского бунта, «бессмысленного и беспощадного», и роковое сцепление обстоятельств, волею которых беглый арестант потрясал государством и бил регулярные войска, не могли не поразить воображение Пушкина. Для исторического беллетриста, какого почувствовал в себе Пушкин еще во времена «Арапа Петра Великого», не могло быть ни лучшей канвы, ни более богатых красок. В романе нет ни одной черты, которая не находила бы подтверждения в истории пугачевщины. Самая завязка действия (тулуп, которой дарит герой Пугачеву на постоялом дворе) могла быть навеяна Пушкину рассказом о казанском пасторе, которому самозванец подарил жизнь, благодарно помняпро жалкие гроши, поданные ему пастором, когда он, голодный, оборванный колодник, просил милостыню на улицах Казани.
Главный герой повести Гринев, как метко указал Ключевский, представляет собою одну из разновидностей Белкина. Это — дворянский «недоросль» ХVIII века, с которым наш поэт обошелся «беспристрастнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается на карикатуру, на комический анекдот. В исторической действительности недоросль — не карикатура, не анекдот, а самое простое и вседневное явление, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это — самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки. Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII веке, впрочем, более шумная, чем плодотворная.
Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. Это — пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцовых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля или, точнее, два момента его истории: один является в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, другой — в наивном беллетристе и летописце села Горюхина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX века, «времен новейших Митрофане». К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину»12.
От лица этого героя ведется рассказ, написанный Гриневым с целью показать, как прав завет: «береги честь смолоду»; рассказ кое-где прерывается наставительными замечаниями Гринева. Ничтожное, небрежное воспитание, которое получил Гринев, спасло природную благородную прямоту и цельность его натуры.
Это — человек долга и чести. И он сумел бы, подобно своим несчастным начальникам, крикнуть в лицо Пугачеву: «ты вор и самозванец» и бесстрашно умереть на виселице; но любовь к осиротелой капитанской дочке, которая может погибнуть в стане злодеев, стать наложницей отвергнутого ею жениха, вынуждает его на некоторый компромисс с чувством долга. Обязанный личной искренней благодарностью самозванцу, он тяжко страдает от происходящей в его душе борьбы между чувствами любви и благодарности и служебного долга. Как и Белкин, он очень любит чтение и очень не прочь от авторства; он кропает стишки, которые были бы под стать если не Нелединскому-Мелецкому, то во всяком случае Николеву. Его верный личарда — Савельич, любящий и преданный дядька, — одно из лучших лиц старого русского мира; он принадлежит к лучшим сынам народа, сумевшего сохранить нетленные сокровища ума и души в удушливом мраке крепостного права. Савельич вполне по-народному смышлен и простодушно-хитер. Заметив явное расположение самозванца к своему барину, он смело представляет ему счет разграбленному пугачевцами барскому добру, надеясь сорвать с Пугачева в пользу своего питомца хоть малую толику. Такое же дитя провинциального, глухого приволья, умное без ученья, благородное без правильного воспитания, как и Гринев, — сама героиня, капитанская дочка. Чистая, религиозная, воспитанная в патриархальных понятиях о святости и могуществе прав семьи, она с болью душевной прямо и наотрез отказывается стать женою любимого человека против воли его родителей; но, приобретя их уважение и любовь, она может действовать энергично и смело: одна, без денег и знакомств, отправляется добиваться правды, и на ее долю выпадает заслуженное счастье — услышать реабилитацию своего жениха, осужденного за измену, из уст самой царицы. В ряду женских исторических типов она стоит рядом со своей дочерью по духу — женою декабриста, идущею за ссыльным мужем в Сибирь. Крепкий нравственный закал капитанская дочка получила в родной семье; она — достойная дочь скромного героя, одного из тех славных людей, в душе которых был крепок нравственный идеал, и которым умирать было легче, чем отступиться от него.
Пушкину, великому «положительному» художнику, легко далось то, что не дается художникам «отрицательным» (вроде Гоголя): без приторной подмалевки, без малейшей прикрасы показал он целую галерею хороших людей, не снабжая их ангельскими крыльями, нигде не греша против жизненной правды, ни в одной черточке не фальшивя. Великий, солнечно-щедрый гений Пушкина инстинктивно, ощупью стремился чуять всюду добро и умел найти в душе Пугачева, рядом с самой дикой, узкой жестокостью, способность помнить и делать добро. Нигде прямо этого не высказывая, поэт чувствовал ласковым, вселюбящим сердцем, что человек без малейшей искорки добра в сердце — отвлеченная фикция, которой нет в реальном мире. Замечательно, что отрицательный герой — Швабрин — менее удался Пушкину, и его мрачный характер не лишен некоторого мелодраматизма; обрисован он не так полно и ясно, как другие лица. Белинский, вообще отнесшийся холодно к «Капитанской дочке», выделил ее из ряда других прозаических произведений Пушкина — как «нечто вроде “Онегина” в прозе… Многие картины по верности, истине содержания и мастерству изложения — чудо совершенства». «Капитанская дочка» всеми читается охотнее других произведений Пушкина; его нельзя, конечно, назвать писателем одной вещи, как, например, из всего наследия Крылова и Грибоедова можно читателю выбрать басни и «Горе от ума», без особой потери отбрасывая все остальное, но все же лучшими и характернейшими художественными произведениями Пушкина надо признать «Онегина» в стихах и «Капитанскую дочку» в прозе. Роман проникнут высоким идеалистическим настроением, а реализм его таков, что мы, по выражению одного критика13, «почти без усилия фантазии начинаем себя чувствовать людьми иного века, потому что видим перед собой живых людей и живую обстановку, в которой соблюдены все условия реальной действительности». Великий ценитель прозы и сам великий прозаик, Толстой считал «Капитанскую дочку» верхом пушкинского творчества14.
Широко задуманный роман из светской жизни не удавался Пушкину. Появившаяся вслед за «Капитанской дочкой» «Пиковая дама» (1834 г.), по замечанию Белинского, посвятившего ей лишь несколько строк, «мастерской рассказ. В ней удивительно верно очерчены старая графиня, ее воспитанница, их отношения и сильный, но демонически-эгоистический характер Германа… Рассказ, повторяем, верх мастерства». Фабула не лишена фантастического, сверхъестественного элемента, который превосходно мирится с общим реализмом рассказа. Воспользовавшись оригинальным, анекдотически-причудливым сюжетом, Пушкин дал несколько интересных лиц. Лучше всего удалась ему старая графиня, выделяющаяся каким-то странным анахронизмом среди людей 20—30-х годов, фигура XVIII века, «статс-дама былого двора». Пушкин некоторые черты этого типа нашел в старой княгине Н. П. Голицыной, рожд. графине Чернышевой, прозванной Princesse Moustache и бывшей ходячей «совестью» николаевского двора, живым кодексом светских приличий и этикета, а также в другой великосветской старухе — Н. К. Загряжской, тоже любопытном обломке XVIII века. В исторически-бытовом отношении это самое замечательное лицо в рассказе.
Интересен и отчетлив мрачный характер Германа, решительного до отчаянности человека, у которого «профиль Наполеона, а душа Мефистофеля» и, кажется, «по крайней мере три злодейства на совести. Воспитанница графини Лиза как романическая героиня бледна, но зато в ней Пушкин навеки закрепил вымерший тип «воспитанницы», жертвы причуд и капризов знатной старухи, жертвы, быть может, более несчастной, чем последний крепостной слуга, — тип, которого Пушкин слегка коснулся несколько лет назад, в начале задуманного эпистолярного романа. Хороши и другие эпизодические герои рассказа — светские молодые люди, великолепно- холодный, строго-величавый глава игорного дома. Ни одна из повестей Пушкина при своем появлении не имела такого шумного успеха, как «Пиковая дама». Она, рассказывает Анненков15, «произвела всеобщий говор и перечитывалась, от пышных чертогов до скромных жилищ, с одинаковым наслаждением. Общий успех этого легкого и фантастического рассказа особенно объясняется тем, что в повести Пушкина есть черты современных нравов, которые обозначены, по его обыкновению, чрезвычайно тонко и ясно». М. О. Гершензон16 причисляет ее к «замечательнейшим русским повестям». Нельзя достаточно надивиться на эту сжатость, стремительность, сосредоточенность рассказа, на эту ясность линий и целомудрие слога… Ни одной лишней черты, но всякая черта, как радиус, стремится к центру повествования; ни одного психологического описания, но все действие насыщено психологией; беспредельное напряжение сил, почти математическая художественная расчетливость — и ни малейшей нарочитости, но все течет естественно, как в самой жизни».
С современным поэту светским обществом мы встречаемся и в следующей повести Пушкина — «Египетские ночи», оставшейся незаконченной. Еще в 1824—1825 гг. Пушкин набросал стихотворение на тему о Клеопатре, продававшей свои ночи любовникам ценою их жизни; эту тему он нашел у римского писателя Аврелия-Виктора. Его пленяло и жестокое сладострастие красавицы-царицы, и цельность и сила натур, отдававших жизнь за один момент счастья; в то же время его искусила мысль сопоставить с этими образами античного сумрака фигуры современного большого света, людей изломанных, неискренних, не умеющих ни горячо ненавидеть, ни страстнолюбить. Он было попробовал написать рассказ из времен Нерона; одним из его героев был Петроний, знаменитый автор «Сатирикона», которого Пушкин считал современником Нерона; в этой драме должно было разыгрываться действие ночей Клеопатры. Эту мысль он, однако, оставил в самом начале, сделав несколько маленьких набросков, и от нероновской эпохи перешел к современному русскому обществу. Насколько можно понять из отдельных глав в связи с подготовительными набросками, с романом великосветской дамы г-жи Лидиной должны были быть сопоставлены, или даже противопоставлены ему, полные кровавого сладострастия ночи египетской царицы.
Любая из брошенных Пушкиным работ заставляет жалеть, что поэт не закончил начатого, но ни одно произведение не пробуждает этого сожаления так сильно, как «Египетские ночи». Это в полном смысле слова, без преувеличений — великое произведение. О той части, в которой изображен древнеримский мир, Белинский писал: «прочтите «Египетские ночи», — вы будете перенесены в самое сердце жизни издыхающего древнего мира… Это воскресший, подобно Помпее и Геркулануму, древний мир на закате его жизни». В других, «русских», набросках прекрасно изображен большой свет с его львами, львицами, педантами вроде Вершнева, московского гегельянца. В отделанной части повести двагероя — светский петербуржец Чарский и бедныйимпровизатор-итальянец. Они — братья по духу: оба — поэты в душе, и хотя один соединяет любовь к прекрасному с довольно неприятным дендизмом, а другой — с не менее противным ремесленничеством разъезжающего фигляра, но зато Чарский умеет «погружаться душою в сладостное забвение», когда пишет стихи, а итальянец — бледнеть, чуя «приближение бога», бога стихов. Чарскому Пушкин придал много собственных черт — и, быть может, потому-то и не закончил страстной повести о нем, т. е. в сущности в значительной степени о себе самом. Поэт не успел еще отделаться от слишком личного участия в своем произведении (в последний раз он принялся за эту повесть в 1835 г.), обратился в другую сторону, и «Египетские ночи» уже не были окончены. Между тем редкое произведение так захватывало его, как «Египетские ночи», судя по ряду приступов. «Всякий, кто внимательно рассматривал это небольшое произведение, — говорит Анненков17, — вероятно заметил, что все краски и все его очертания необычайно глубоко продуманы, строжайше взвешены и оценены предварительно и потом уже воспроизведены в минуту вдохновения, сообщившую всем им свежесть, блеск первого впечатления». Пушкин оставил в «Египетских ночах» несколько замечаний о своем творческом процессе — драгоценный материал для изучения физиологии и психологии творчества — и о своих отношениях к обществу и журналистам; в отзывах о последних много досады и негодования.
Так же была оставлена Пушкиным едва начатая попытка написать (около 1835 г.) историко-бытовой роман из жизни русского общества двадцатых годов — «Русский Пелам». Известны его начало, прекрасный образец прозы, и пять отрывочных программ. У английского романиста Бульвера, автора романа «Pelham», давшего широкую картину английского общества, среди которого развертывается личная история героя (его именем назван роман), Пушкин заимствовал внешний прием и хотел дать такую же картину русской жизни, среди которой должен был действовать русский герой. В программах, довольно неясных, множество имен интересных исторических лиц — братья Феодор и Алексей Орловы, Всеволожский, гр. В. П. Кочубей, гр. Завадовский, драматург кн. Шаховской и актриса Ежова, Грибоедов, макаронический поэт Неелов, И. И. Козлов, Котляревский, Мордвинов, танцовщицы Истомина и Овошникова; фигурирует и «общество умных» — будущих декабристов. Судя по этому разнообразию, Пушкин хотел дать полное изображение русской жизни в двадцатых годах, и роман должен был выйти немаленький.
Так же были едва начаты и остались в черновых бумагах «Сцены из рыцарских времен» и кое-какие драматические замыслы. В «Сценах» Пушкин так же легко и свободно проник в западно-европейское средневековье, как в «Египетских ночах» понял древний мир; в них он коснулся борьбы феодализма с нарождающимся средним классом и рисовал рыцарство; знаменитая баллада о рыцаре, влюбленном в Деву, которую поет герой, проникнута средневековым мистицизмом. В этом произведении видна глубина и точность исторических изучений, которыми занимался поэт, но «книгой» и не пахнет от поэтического претворения добытых материальных знаний в идеальную правду искусства.
К области исторической беллетристики следует отнести также небольшой рассказ «Кирджали» (1834 г.) и едва начатые записки П. В. Нащокина (1830 г.). «Кирджали» — история бессарабского разбойника, рассказанная со всей простотой великого мастерства и с тонким юмором. Записки Нащокина представляют собою переработанные поэтом семейные воспоминания его московского друга, умного и ленивого человека, которого Пушкин никак не мог усадить за писание записок. «Что твои мемории? — писал ему однажды Пушкин. — Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятнее, — да и тебе легче. Незаметным образом вырастет том, а там, глядишь, и другой». Но у ленивого Нащокина дело дальше не пошло. Прочитав появившийся в печати отрывок, Белинский писал18: «вы бы с наслаждением прочли или, вернее сказать, проглотили бы и роман в десяти частях, написанный так, а между тем должны довольствоваться двумя страничками». Нащокин по темпераменту не был писатель, и Пушкину так и не удалось заставить его взяться за перо; ему принадлежит только содержание воспоминаний, а на выполнении лежит печать пушкинского гения. Великий не только в законченных своих трудах, великий и в широте задуманных планов, набросанных программ, Пушкин унес в могилу ряд разнообразных и богатых творческих замыслов, многие из которых принадлежат к роду беллетристики. Последних было гораздо больше, чем стихотворных. Еще немного, — и гениальный прозаик поравнялся бы с гениальным поэтом. После «Капитанской дочки» и «Египетских ночей» Пушкину оставалось сделать один шаг к этому пределу.
Н. О. Лернер
1 Печатается по: Лернер Н.О. Проза Пушкина. 2-е изд. Пг., М.: Книга. Печатается в сокращении.
2 Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. С прил. рис.: модели памятника, места погребения и снимков с почерков и рис. поэта. 1873. С. 191.
3 Майков Л. Н. Пушкин. Биогр. материалы и историко-литературные очерки. 1899. С. 177.
4 «Черный ворон выбирал белую лебедушку».
5 IV. Глава из исторического романа // Северные цветы на 1829 год. СПб., С. 182.
6Русская Старина. 1884 г. Апрель. С. 106; Русская Старина. 1884 г. Ноябрь. С. 337—338. К мысли о повести из той же эпохи Пушкин возвращался и в средине 30-х годов; известен план такой работы («Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Повременное изд. Комиссии для издания сочинений Пушкина при Отд-нии рус. яз. и словесности Рос. акад. наук. Вып. IV. C. 24).
7 «Молва» 1835 г., № 7; Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 12 тт. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. II, СПб., 1901. С. 59—61.
8«Он советовал, — говорит Анненков (Анненков П. В., А. С. Пушкин. Материалы для его биогр. и оценки произведений. С прил. рис.: модели памятника, места погребения и снимков с почерков и рис. поэта. 1873. С. 100), — учиться русскому языку у старых московских барынь, которые никогда не заменяют энергических фраз: я была в девках, лечилась и т. п., жеманными фразами: я была в девицах, меня пользовал и проч.».
9 Шляпкин И. А. Из неизданных бумаг Пушкина. СПб., 1903. С. 58.
10 Ключевский В.О. «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину» // Булгаков Ф. И. Венок на памятник Пушкину. Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции. СПб., 1880. С. 276—277.
11 Написана вчерне в 1833 г., но отделывалась позднее, еще в 1836 г. — Прося летом 1833 г. позволения съездить в Оренбургскую и Казанскую губернии, Пушкин указывал, что хочет «дописать роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани» (Пушкин А. С. Сочинения и письма. СПб: Просвещение. Т. VIII. С. 291; «Дела III Отделения собственной Е. И. В. канцелярии об А. С. Пушкине». СПб., 1906. С. 135).
12 «Венок памятнику Пушкина». С. 277.
13 Котляревский Н. А. Гоголь. СПб., 1903. С. 202—203.
14 Андреевич. Л. Н. Толстой. СПб., 1905. С. 80.
15 Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. С прил. рис.: модели памятника, места погребения и снимков с почерков и рис. поэта. 1873. С. 387.
16 Сочинения А. С. Пушкина. Под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауз-Ефрон, 1909. Т. IV.
17 Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. С прил. рис.: модели памятника, места погребения и снимков с почерков и рис. поэта. 1873. С. 387.
18Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 12 тт. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV, СПб. C. 72.
Арап Петра Великого
Железной волею Петра
Преображенная Россия.
Н. Языков
Глава I
Я в Париже;
Я начал жить, а не дышать.
Дмитриев
Журнал путешественника
В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущенбылкапитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровии, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.
По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law19; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.
Между тем общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, все, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностию. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.
Temps fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D’un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l’on fait tout excepté pénitence.20
Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar21и ловили его наперехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.
Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. 17-ти лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.
Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания: это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.
Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.
Любовь не приходила ему на ум, — а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность… Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противуставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму…
Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.
Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения — все было истощено и все отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.
Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.
Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Дня два перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливал его ужасом… вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини. Черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку… но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.
Все вошло в обыкновенный порядок, но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано илипоздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненавистьмогли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.
19 Д. Лоу, финансовый делец.
20 Счастливое время, отмеченное вольностью нравов,
Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не изволит быть богомольным.
Когда готовы на все, кроме покаяния (франц.).
21 царского негра (франц.).
Глава II
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен…
Желанием честей размучен.
Зовет, я слышу, славы шум!
Державин
Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться бóльшим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.
Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра I-го. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете, — сказал ему герцог, — Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Останьтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею, — сказал ему регент, — но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.
Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Bonne nuit»22, — сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Bonne nuit, messieurs»23, — повторила графиня. Он все не двигался… наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:
«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.
Счастие мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию… Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты наконец устыдилась бы своей страсти… что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты…
Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?
Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни.Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, гдемне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства… Прости, Леонора, — отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме».
В ту же ночь он отправился в Россию.
Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.
Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала, но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в 17-й день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.
Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку везти за нами; а сам садись сомною и поедем ко мне». Подали государеву коляску; он сел с Ибрагимом и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались нáскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку,сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные, проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы стояли за нею и почтительно приближились к Петру. «Лиза, — сказал он одной из них, — помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным; Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.
После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собралися во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.
Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал он Ибрагиму, — не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарнеи занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму,силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончанию трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».
Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.